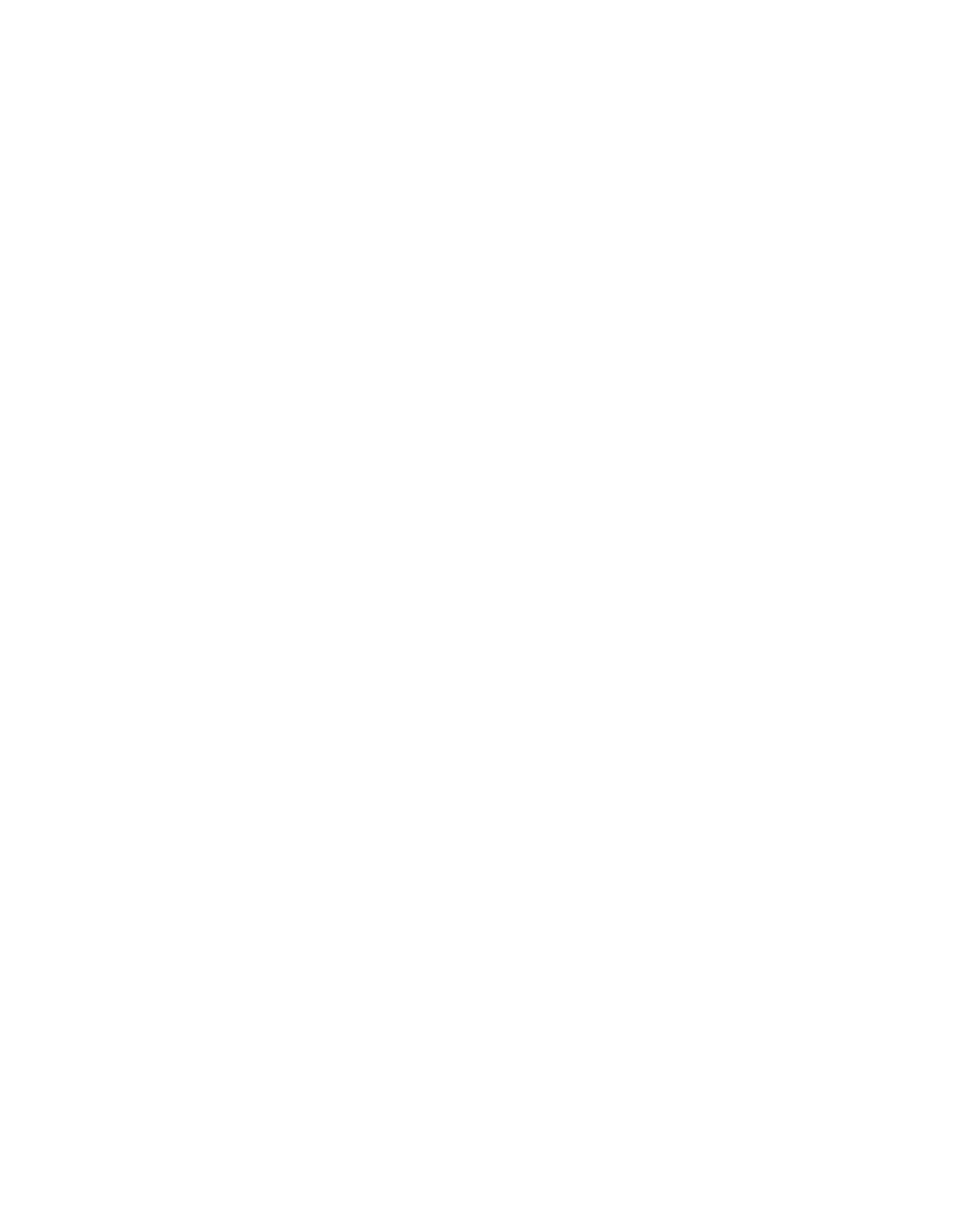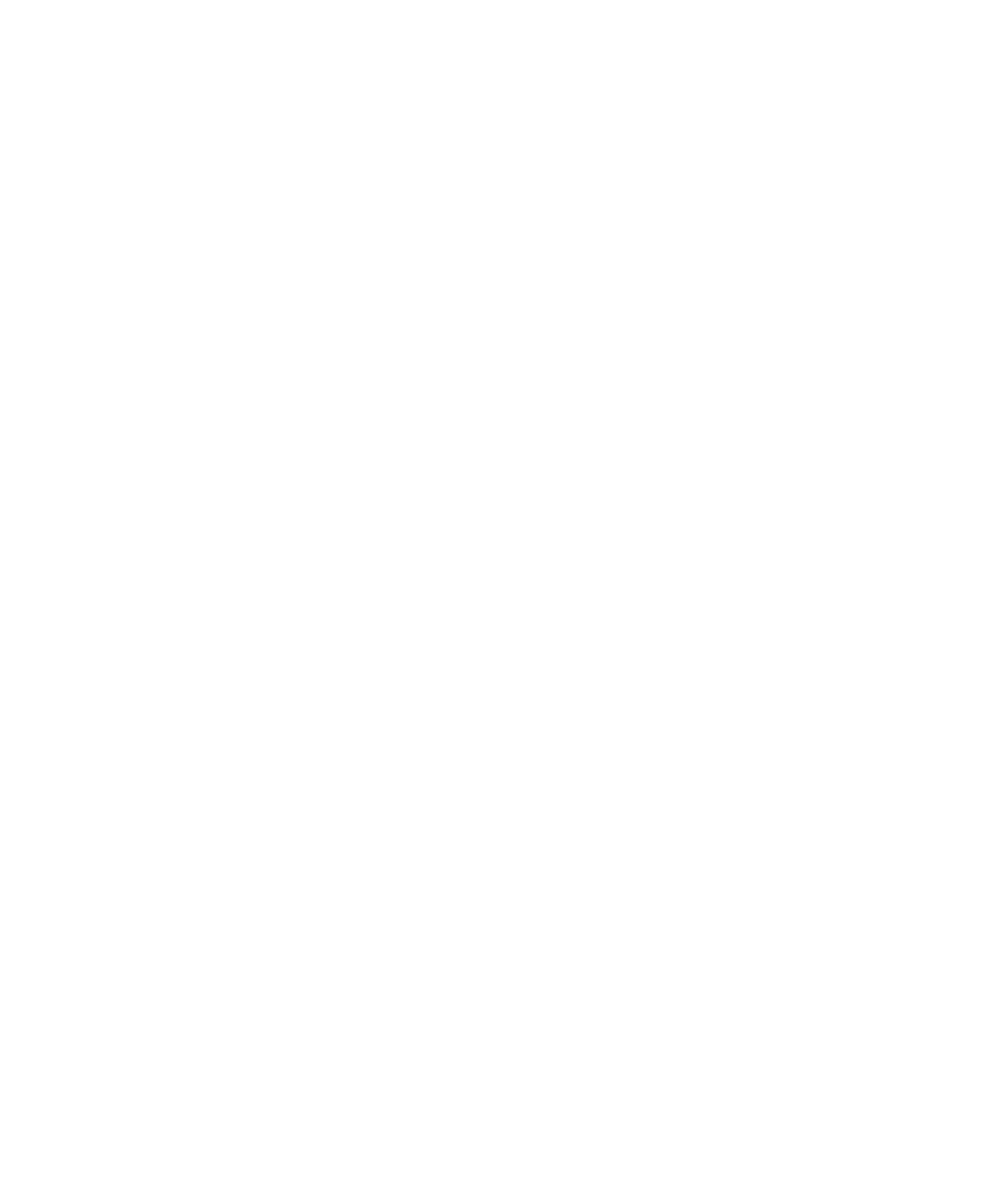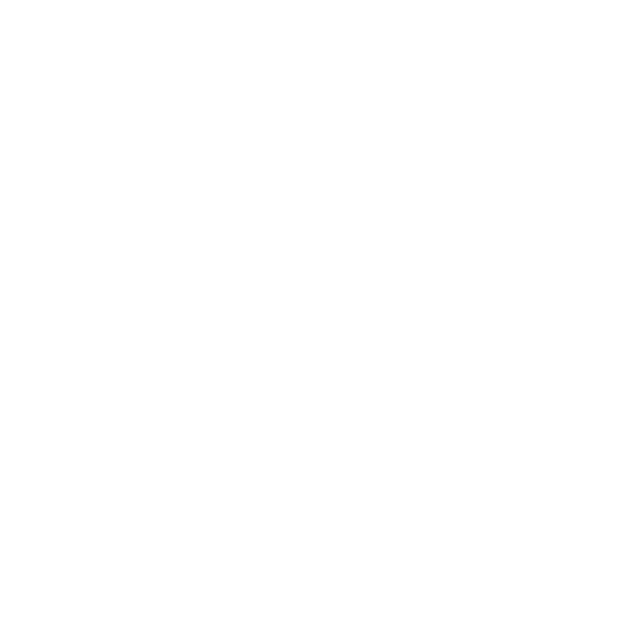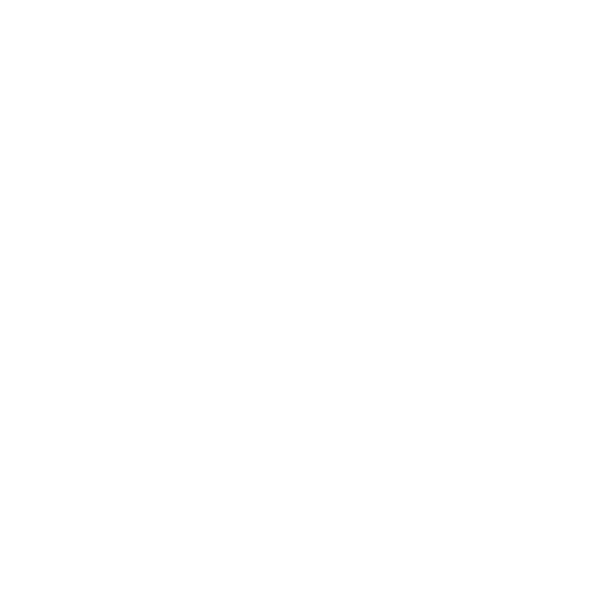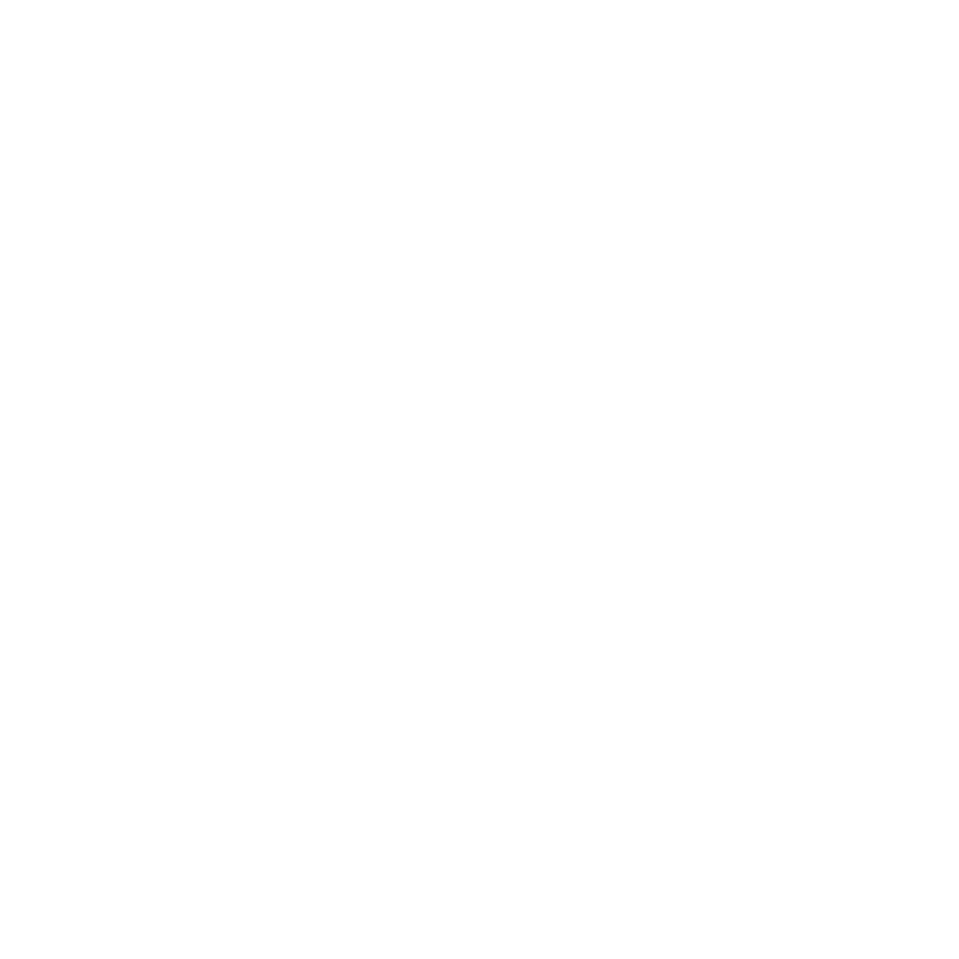перевёл Александр Замятин
Загадка равенства
Редакторская колонка Джошуа Ротмана в журнале «The New Yorker»
обложка и иллюстрации: Monica Garwood
Майкл и Анджела только что отметили 55-летие. За последние два года погибли двое их знакомых — один в аварии, другой от рака. Это заставляет их думать о детях: если они внезапно умрут в авиакатастрофе — что будет с детьми?
У них четверо детей разного возраста. Математически одарённая Хлоя работает в Гугле и планирует запустить собственный бизнес. Уилл имеет образование в области социальной работы и выплачивает долг за обучение, подрабатывая в реабилитационном наркологическом центре. Близняшки Джеймс и Алексис учатся в колледже. Джеймс, вечно обкуренный недоучка, думает, что может стать популярным ютубером. (Его уже дважды отчисляли за хулиганство). Алексис, которая хочет заниматься поэзией, имеет врождённое заболевание, которое может оставить её слепой.
Сначала Майкл и Анджела планировали разделить всё наследство поровну. Но вскоре задумались. Хлоя имеет все шансы на успех в Силиконовой долине; Уилл отягощён долгами в своём стремлении помогать нуждающимся. Джеймс наверняка разбазарит свою долю на одежду и еду и станет от этого ещё более ленивым; а вот Алексис вскоре могут понадобиться деньги на лечение. Быть может, — рассуждают Майкл и Анджела, — не следует распределять наследство поровну и стоит придумать более мудрый выход. Но их всё же беспокоит неравное распределение само по себе.
Философ Рональд Дворкин разобрал эту родительскую дилемму в своём эссе 1981 года «Что такое равенство?». Родители, пишет Дворкин, столкнулись здесь с двумя противоречащими друг другу эгалитарными подходами, каждый из которых по-своему достоин. Подход «равенства ресурсов» предполагает равное распределение наследства, но в то же время упускает из виду важные различия между получателями. Другой подход, «равенство благосостояния», пытается учесть эти различия с помощью мудрёных вычислений. Пойти по первому пути значит проигнорировать существенные особенности своих детей, выбор второго пути влечёт риски неравного и некорректного распределения.
В 2014 году Pew Research Center исследовал мнения американцев о «главных мировых угрозах». Большинство опрошенных отметили неравенство, за ним следовали религиозная и этническая вражда, ядерное оружие и экология. При этом у нас нет общепринятого понимания равенства. Так, в прошлом году в Нью-Йорке разгорелись дебаты об элитных государственных школах. Некоторые национальности в них были явно слабее представлены среди учащихся. Как к этому относиться? Одни утверждали, что достаточно обеспечить процедурное равенство: все поступающие должны иметь равный доступ к информации о вступительных экзаменах и подготовительным занятиям. Другие настаивали на введении новой системы приёма, учитывающей социально-демографическую структуру города. Обе стороны в этом споре предлагают достойные внимания, но несовместимые подходы к равенству. Поскольку люди и обстоятельства их жизни различаются, — пишет Дворкин, — торг здесь идёт между равным подходом к людями и подходом к людям «как к равным».
Достижение эгалитаризма кажется особенно безнадёжным делом, если учесть, что вокруг так много неравенства между людьми. Топ-менеджеры зарабатывают в среднем почти в 300 раз больше, чем их подчинённые; миллиардеры-доноры формируют нашу политику; автоматизация производства приносит выгоды владельцам, а не рабочим; города богатеют, в то время как в сельской местности экономика стагнирует; лучшая медицинская помощь достаётся самым богатым. В политической сфере мы переживаем потерю того, что Алексис де Токвиль называл «общее равенство условий», которое, за печальным исключением рабства, однажды сформировало американское общество. И это не только о деньгах. Токвиль отмечал в 1835 году, что наша «повседневная жизнь» была эгалитарна: мы вели себя так, будто между нами нет особых различий. Сегодня у нас есть раздельные очереди за попкорном в кинотеатрах и пять классов такси в Убере; мы по-прежнему боремся с расовым, гендерным, основанном на сексуальной ориентации и другими видами социального неравенства. Неравенство повсюду, и оно унизительно. Диагноз поставлен. Почему мы не можем выбрать лечение?
У них четверо детей разного возраста. Математически одарённая Хлоя работает в Гугле и планирует запустить собственный бизнес. Уилл имеет образование в области социальной работы и выплачивает долг за обучение, подрабатывая в реабилитационном наркологическом центре. Близняшки Джеймс и Алексис учатся в колледже. Джеймс, вечно обкуренный недоучка, думает, что может стать популярным ютубером. (Его уже дважды отчисляли за хулиганство). Алексис, которая хочет заниматься поэзией, имеет врождённое заболевание, которое может оставить её слепой.
Сначала Майкл и Анджела планировали разделить всё наследство поровну. Но вскоре задумались. Хлоя имеет все шансы на успех в Силиконовой долине; Уилл отягощён долгами в своём стремлении помогать нуждающимся. Джеймс наверняка разбазарит свою долю на одежду и еду и станет от этого ещё более ленивым; а вот Алексис вскоре могут понадобиться деньги на лечение. Быть может, — рассуждают Майкл и Анджела, — не следует распределять наследство поровну и стоит придумать более мудрый выход. Но их всё же беспокоит неравное распределение само по себе.
Философ Рональд Дворкин разобрал эту родительскую дилемму в своём эссе 1981 года «Что такое равенство?». Родители, пишет Дворкин, столкнулись здесь с двумя противоречащими друг другу эгалитарными подходами, каждый из которых по-своему достоин. Подход «равенства ресурсов» предполагает равное распределение наследства, но в то же время упускает из виду важные различия между получателями. Другой подход, «равенство благосостояния», пытается учесть эти различия с помощью мудрёных вычислений. Пойти по первому пути значит проигнорировать существенные особенности своих детей, выбор второго пути влечёт риски неравного и некорректного распределения.
В 2014 году Pew Research Center исследовал мнения американцев о «главных мировых угрозах». Большинство опрошенных отметили неравенство, за ним следовали религиозная и этническая вражда, ядерное оружие и экология. При этом у нас нет общепринятого понимания равенства. Так, в прошлом году в Нью-Йорке разгорелись дебаты об элитных государственных школах. Некоторые национальности в них были явно слабее представлены среди учащихся. Как к этому относиться? Одни утверждали, что достаточно обеспечить процедурное равенство: все поступающие должны иметь равный доступ к информации о вступительных экзаменах и подготовительным занятиям. Другие настаивали на введении новой системы приёма, учитывающей социально-демографическую структуру города. Обе стороны в этом споре предлагают достойные внимания, но несовместимые подходы к равенству. Поскольку люди и обстоятельства их жизни различаются, — пишет Дворкин, — торг здесь идёт между равным подходом к людями и подходом к людям «как к равным».
Достижение эгалитаризма кажется особенно безнадёжным делом, если учесть, что вокруг так много неравенства между людьми. Топ-менеджеры зарабатывают в среднем почти в 300 раз больше, чем их подчинённые; миллиардеры-доноры формируют нашу политику; автоматизация производства приносит выгоды владельцам, а не рабочим; города богатеют, в то время как в сельской местности экономика стагнирует; лучшая медицинская помощь достаётся самым богатым. В политической сфере мы переживаем потерю того, что Алексис де Токвиль называл «общее равенство условий», которое, за печальным исключением рабства, однажды сформировало американское общество. И это не только о деньгах. Токвиль отмечал в 1835 году, что наша «повседневная жизнь» была эгалитарна: мы вели себя так, будто между нами нет особых различий. Сегодня у нас есть раздельные очереди за попкорном в кинотеатрах и пять классов такси в Убере; мы по-прежнему боремся с расовым, гендерным, основанном на сексуальной ориентации и другими видами социального неравенства. Неравенство повсюду, и оно унизительно. Диагноз поставлен. Почему мы не можем выбрать лечение?
Майкл и Анджела только что отметили 55-летие. За последние два года погибли двое их знакомых — один в аварии, другой от рака. Это заставляет их думать о детях: если они внезапно умрут в авиакатастрофе — что будет с детьми?
У них четверо детей разного возраста. Математически одарённая Хлоя работает в Гугле и планирует запустить собственный бизнес. Уилл имеет образование в области социальной работы и выплачивает долг за обучение, подрабатывая в реабилитационном наркологическом центре. Близняшки Джеймс и Алексис учатся в колледже. Джеймс, вечно обкуренный недоучка, думает, что может стать популярным ютубером. (Его уже дважды отчисляли за хулиганство). Алексис, которая хочет заниматься поэзией, имеет врождённое заболевание, которое может оставить её слепой.
Сначала Майкл и Анджела планировали разделить всё наследство поровну. Но вскоре задумались. Хлоя имеет все шансы на успех в Силиконовой долине; Уилл отягощён долгами в своём стремлении помогать нуждающимся. Джеймс наверняка разбазарит свою долю на одежду и еду и станет от этого ещё более ленивым; а вот Алексис вскоре могут понадобиться деньги на лечение. Быть может, — рассуждают Майкл и Анджела, — не следует распределять наследство поровну и стоит придумать более мудрый выход. Но их всё же беспокоит неравное распределение само по себе.
Философ Рональд Дворкин разобрал эту родительскую дилемму в своём эссе 1981 года «Что такое равенство?». Родители, пишет Дворкин, столкнулись здесь с двумя противоречащими друг другу эгалитарными подходами, каждый из которых по-своему достоин. Подход «равенства ресурсов» предполагает равное распределение наследства, но в то же время упускает из виду важные различия между получателями. Другой подход, «равенство благосостояния», пытается учесть эти различия с помощью мудрёных вычислений. Пойти по первому пути значит проигнорировать существенные особенности своих детей, выбор второго пути влечёт риски неравного и некорректного распределения.
В 2014 году Pew Research Center исследовал мнения американцев о «главных мировых угрозах». Большинство опрошенных отметили неравенство, за ним следовали религиозная и этническая вражда, ядерное оружие и экология. При этом у нас нет общепринятого понимания равенства. Так, в прошлом году в Нью-Йорке разгорелись дебаты об элитных государственных школах. Некоторые национальности в них были явно слабее представлены среди учащихся. Как к этому относиться? Одни утверждали, что достаточно обеспечить процедурное равенство: все поступающие должны иметь равный доступ к информации о вступительных экзаменах и подготовительным занятиям. Другие настаивали на введении новой системы приёма, учитывающей социально-демографическую структуру города. Обе стороны в этом споре предлагают достойные внимания, но несовместимые подходы к равенству. Поскольку люди и обстоятельства их жизни различаются, — пишет Дворкин, — торг здесь идёт между равным подходом к людями и подходом к людям «как к равным».
Достижение эгалитаризма кажется особенно безнадёжным делом, если учесть, что вокруг так много неравенства между людьми. Топ-менеджеры зарабатывают в среднем почти в 300 раз больше, чем их подчинённые; миллиардеры-доноры формируют нашу политику; автоматизация производства приносит выгоды владельцам, а не рабочим; города богатеют, в то время как в сельской местности экономика стагнирует; лучшая медицинская помощь достаётся самым богатым. В политической сфере мы переживаем потерю того, что Алексис де Токвиль называл «общее равенство условий», которое, за печальным исключением рабства, однажды сформировало американское общество. И это не только о деньгах. Токвиль отмечал в 1835 году, что наша «повседневная жизнь» была эгалитарна: мы вели себя так, будто между нами нет особых различий. Сегодня у нас есть раздельные очереди за попкорном в кинотеатрах и пять классов такси в Убере; мы по-прежнему боремся с расовым, гендерным, основанном на сексуальной ориентации и другими видами социального неравенства. Неравенство повсюду, и оно унизительно. Диагноз поставлен. Почему мы не можем выбрать лечение?
У них четверо детей разного возраста. Математически одарённая Хлоя работает в Гугле и планирует запустить собственный бизнес. Уилл имеет образование в области социальной работы и выплачивает долг за обучение, подрабатывая в реабилитационном наркологическом центре. Близняшки Джеймс и Алексис учатся в колледже. Джеймс, вечно обкуренный недоучка, думает, что может стать популярным ютубером. (Его уже дважды отчисляли за хулиганство). Алексис, которая хочет заниматься поэзией, имеет врождённое заболевание, которое может оставить её слепой.
Сначала Майкл и Анджела планировали разделить всё наследство поровну. Но вскоре задумались. Хлоя имеет все шансы на успех в Силиконовой долине; Уилл отягощён долгами в своём стремлении помогать нуждающимся. Джеймс наверняка разбазарит свою долю на одежду и еду и станет от этого ещё более ленивым; а вот Алексис вскоре могут понадобиться деньги на лечение. Быть может, — рассуждают Майкл и Анджела, — не следует распределять наследство поровну и стоит придумать более мудрый выход. Но их всё же беспокоит неравное распределение само по себе.
Философ Рональд Дворкин разобрал эту родительскую дилемму в своём эссе 1981 года «Что такое равенство?». Родители, пишет Дворкин, столкнулись здесь с двумя противоречащими друг другу эгалитарными подходами, каждый из которых по-своему достоин. Подход «равенства ресурсов» предполагает равное распределение наследства, но в то же время упускает из виду важные различия между получателями. Другой подход, «равенство благосостояния», пытается учесть эти различия с помощью мудрёных вычислений. Пойти по первому пути значит проигнорировать существенные особенности своих детей, выбор второго пути влечёт риски неравного и некорректного распределения.
В 2014 году Pew Research Center исследовал мнения американцев о «главных мировых угрозах». Большинство опрошенных отметили неравенство, за ним следовали религиозная и этническая вражда, ядерное оружие и экология. При этом у нас нет общепринятого понимания равенства. Так, в прошлом году в Нью-Йорке разгорелись дебаты об элитных государственных школах. Некоторые национальности в них были явно слабее представлены среди учащихся. Как к этому относиться? Одни утверждали, что достаточно обеспечить процедурное равенство: все поступающие должны иметь равный доступ к информации о вступительных экзаменах и подготовительным занятиям. Другие настаивали на введении новой системы приёма, учитывающей социально-демографическую структуру города. Обе стороны в этом споре предлагают достойные внимания, но несовместимые подходы к равенству. Поскольку люди и обстоятельства их жизни различаются, — пишет Дворкин, — торг здесь идёт между равным подходом к людями и подходом к людям «как к равным».
Достижение эгалитаризма кажется особенно безнадёжным делом, если учесть, что вокруг так много неравенства между людьми. Топ-менеджеры зарабатывают в среднем почти в 300 раз больше, чем их подчинённые; миллиардеры-доноры формируют нашу политику; автоматизация производства приносит выгоды владельцам, а не рабочим; города богатеют, в то время как в сельской местности экономика стагнирует; лучшая медицинская помощь достаётся самым богатым. В политической сфере мы переживаем потерю того, что Алексис де Токвиль называл «общее равенство условий», которое, за печальным исключением рабства, однажды сформировало американское общество. И это не только о деньгах. Токвиль отмечал в 1835 году, что наша «повседневная жизнь» была эгалитарна: мы вели себя так, будто между нами нет особых различий. Сегодня у нас есть раздельные очереди за попкорном в кинотеатрах и пять классов такси в Убере; мы по-прежнему боремся с расовым, гендерным, основанном на сексуальной ориентации и другими видами социального неравенства. Неравенство повсюду, и оно унизительно. Диагноз поставлен. Почему мы не можем выбрать лечение?
В январе 2015 года Джереми Уолдрон, политический философ из Школы права Нью-Йоркского университета, прочитал серию лекций в Эдинбургском университете о фундаментальной природе человеческого равенства. В начале он решил раззадорить аудиторию. «Взгляните вокруг, — заявил он, — и посмотрите, как много между вами различий». В аудитории были молодые и старые, мужчины и женщины, красивые и некрасивые, богатые и бедные, здоровые и немощные, люди статусные и простые. Теоретически, отметил Уолдрон, в аудитории могли бы оказаться «военнослужащие и гражданские, беглецы, осуждённые и законопослушные граждане, бездомные и владельцы недвижимости» — «даже банкроты, младенцы и душевнобольные», и у всех были бы разные юридические права.
В своей книге «One Another’s Equals: The Basis of Human Equality», основанной на этих лекциях, Уолдрон отмечает, что люди также различаются по своим навыкам, опыту, изобретательности и добродетели. Он задаётся вопросом, в каком смысле мы вообще можем говорить о равенстве, учитывая такие существенные различия. Уолдрон верит в фундаментальное равенство людей, но, будучи философом, он хочет понять, почему он в это верит.
Согласно Декларации независимости, самоочевидно, что все люди созданы равными. С другой стороны, очевидно как раз то, что мы все не равны. Десять лет назад Дебора Соломон спросила Дональда Трампа, что он думает об идее о том, что «все люди созданы равными». Трамп ответил: «Это неправда». «Кто-то рождается умным, кто-то нет, кто-то красивым, кто-то нет, так что ни о каком равенстве от рождения не может быть и речи». Трамп признал, что все люди равны перед законом, но в заключение заметил, что фраза «Все люди созданы равными» — слишком запутанная для многих людей. Согласно опросам 2015 года, с ним согласны больше 20% американцев: они считают, что утверждение «Все люди созданы равными» ложно.
С точки зрения Уолдрона необязательно выбирать одно из двух; людей можно рассматривать как равных и неравных одновременно. Общество может разделять своих граждан на категории — законопослушные и преступники, гении и посредственности — и в то же время допускать некий принцип базового равенства в своих суждениях о людях, которые могут иногда меняться. Эгалитаристы вроде Дворкина и Уолдрона называют этот принцип «глубинным равенством». Именно оно позволяет нам считать, что даже те люди, которые заслуженно имеют особую ценность для общества, — герои, сенаторы, поп-звёзды — всё же в каком-то фундаментальном смысле ничем не лучше, чем любой другой человек. По той же причине, говорит Уолдрон, глубинное равенство позволяет видеть даже в самом омерзительном убийце члена человеческого рода «со всем достоинством и статусом отсюда вытекающими». Глубинное равенство — помимо прочего — подсказывает нам, что неправильно изолировать детей мигрантов в тюрьмах вне зависимости от их правового статуса. Уолдрон хочет найти источник этого глубинного равенства.
В своём исследовании он рассматривает многовековую интеллектуальную историю человечества. Многие мыслители, от Цицерона до Локка, утверждали, что равными нас делает способность к разумному мышлению. Но разве эта способность сама по себе не распределена неравным образом? Другие мыслители, включая Канта, уповали на наше моральное чувство. Но не сводит ли этот признак равенство к добродетели? Некоторые философы, такие как Иеремия Бентам, предполагали, что равными нас делает способность страдать. Но многие животные также могут страдать. Другие предлагали способность любить. Но как быть с эгоистами? На практике нам бы очень помогло определение чёткой основы для глубинного равенства. Если, скажем, оно основано на способности страдать, то Майкл и Анджела, должны спокойно поощрить свою дочь Алексис, которая рискует ослепнуть, дополнительной долей наследства. Однако Уолдрон не считает ни один из этих вариантов полностью убедительным.
В различных религиозных традициях, отмечает Уолдрон, равенство проистекает не только из того положения, что человек создан по образу и подобию бога, но и из того, что в каком-то смысле каждый из нас является героем эпопеи об ошибках, их осознании и искуплении: мы равны, потому что бог заботится о том, как всё обернётся для каждого из нас. Он замечает, что атеистам тоже не чужда мысль о равенстве как идее о том, что каждый из нас проживает свою собственную жизнь. Самого Уолдрона занимает концепция «натальности» Ханны Арендт — объединяющее всех нас представление о том, что каждый рождается «новичком», приходящим в мир «со способностью начинать что-то новое, действовать». Сама Арендт скептически относилась к поискам доказательств равенства; по её мнению, Холокост показал, что «нет ничего святого в абстрактной наготе человеческого бытия». Если это верно, то равенство может оказаться вовсе не самоочевидным свойством человечества, а рукотворным социальным конструктом, который мы пытаемся претворить в жизнь на практике.
В конце концов Уолдрон приходит к выводу о том, что нет «маленькой отшлифованной единой душеподобной субстанции», которая делала бы нас равными; есть только пёстрый набор аргументов в пользу нашего глубинного равенства, убедительных в общем, но ограниченных индивидуально. Равенство — это составная идея, связывающая наши взаимодополняющие и конкурирующие интуиции.
В своей книге «One Another’s Equals: The Basis of Human Equality», основанной на этих лекциях, Уолдрон отмечает, что люди также различаются по своим навыкам, опыту, изобретательности и добродетели. Он задаётся вопросом, в каком смысле мы вообще можем говорить о равенстве, учитывая такие существенные различия. Уолдрон верит в фундаментальное равенство людей, но, будучи философом, он хочет понять, почему он в это верит.
Согласно Декларации независимости, самоочевидно, что все люди созданы равными. С другой стороны, очевидно как раз то, что мы все не равны. Десять лет назад Дебора Соломон спросила Дональда Трампа, что он думает об идее о том, что «все люди созданы равными». Трамп ответил: «Это неправда». «Кто-то рождается умным, кто-то нет, кто-то красивым, кто-то нет, так что ни о каком равенстве от рождения не может быть и речи». Трамп признал, что все люди равны перед законом, но в заключение заметил, что фраза «Все люди созданы равными» — слишком запутанная для многих людей. Согласно опросам 2015 года, с ним согласны больше 20% американцев: они считают, что утверждение «Все люди созданы равными» ложно.
С точки зрения Уолдрона необязательно выбирать одно из двух; людей можно рассматривать как равных и неравных одновременно. Общество может разделять своих граждан на категории — законопослушные и преступники, гении и посредственности — и в то же время допускать некий принцип базового равенства в своих суждениях о людях, которые могут иногда меняться. Эгалитаристы вроде Дворкина и Уолдрона называют этот принцип «глубинным равенством». Именно оно позволяет нам считать, что даже те люди, которые заслуженно имеют особую ценность для общества, — герои, сенаторы, поп-звёзды — всё же в каком-то фундаментальном смысле ничем не лучше, чем любой другой человек. По той же причине, говорит Уолдрон, глубинное равенство позволяет видеть даже в самом омерзительном убийце члена человеческого рода «со всем достоинством и статусом отсюда вытекающими». Глубинное равенство — помимо прочего — подсказывает нам, что неправильно изолировать детей мигрантов в тюрьмах вне зависимости от их правового статуса. Уолдрон хочет найти источник этого глубинного равенства.
В своём исследовании он рассматривает многовековую интеллектуальную историю человечества. Многие мыслители, от Цицерона до Локка, утверждали, что равными нас делает способность к разумному мышлению. Но разве эта способность сама по себе не распределена неравным образом? Другие мыслители, включая Канта, уповали на наше моральное чувство. Но не сводит ли этот признак равенство к добродетели? Некоторые философы, такие как Иеремия Бентам, предполагали, что равными нас делает способность страдать. Но многие животные также могут страдать. Другие предлагали способность любить. Но как быть с эгоистами? На практике нам бы очень помогло определение чёткой основы для глубинного равенства. Если, скажем, оно основано на способности страдать, то Майкл и Анджела, должны спокойно поощрить свою дочь Алексис, которая рискует ослепнуть, дополнительной долей наследства. Однако Уолдрон не считает ни один из этих вариантов полностью убедительным.
В различных религиозных традициях, отмечает Уолдрон, равенство проистекает не только из того положения, что человек создан по образу и подобию бога, но и из того, что в каком-то смысле каждый из нас является героем эпопеи об ошибках, их осознании и искуплении: мы равны, потому что бог заботится о том, как всё обернётся для каждого из нас. Он замечает, что атеистам тоже не чужда мысль о равенстве как идее о том, что каждый из нас проживает свою собственную жизнь. Самого Уолдрона занимает концепция «натальности» Ханны Арендт — объединяющее всех нас представление о том, что каждый рождается «новичком», приходящим в мир «со способностью начинать что-то новое, действовать». Сама Арендт скептически относилась к поискам доказательств равенства; по её мнению, Холокост показал, что «нет ничего святого в абстрактной наготе человеческого бытия». Если это верно, то равенство может оказаться вовсе не самоочевидным свойством человечества, а рукотворным социальным конструктом, который мы пытаемся претворить в жизнь на практике.
В конце концов Уолдрон приходит к выводу о том, что нет «маленькой отшлифованной единой душеподобной субстанции», которая делала бы нас равными; есть только пёстрый набор аргументов в пользу нашего глубинного равенства, убедительных в общем, но ограниченных индивидуально. Равенство — это составная идея, связывающая наши взаимодополняющие и конкурирующие интуиции.
В январе 2015 года Джереми Уолдрон, политический философ из Школы права Нью-Йоркского университета, прочитал серию лекций в Эдинбургском университете о фундаментальной природе человеческого равенства. В начале он решил раззадорить аудиторию. «Взгляните вокруг, — заявил он, — и посмотрите, как много между вами различий». В аудитории были молодые и старые, мужчины и женщины, красивые и некрасивые, богатые и бедные, здоровые и немощные, люди статусные и простые. Теоретически, отметил Уолдрон, в аудитории могли бы оказаться «военнослужащие и гражданские, беглецы, осуждённые и законопослушные граждане, бездомные и владельцы недвижимости» — «даже банкроты, младенцы и душевнобольные», и у всех были бы разные юридические права.
В своей книге «One Another’s Equals: The Basis of Human Equality», основанной на этих лекциях, Уолдрон отмечает, что люди также различаются по своим навыкам, опыту, изобретательности и добродетели. Он задаётся вопросом, в каком смысле мы вообще можем говорить о равенстве, учитывая такие существенные различия. Уолдрон верит в фундаментальное равенство людей, но, будучи философом, он хочет понять, почему он в это верит.
Согласно Декларации независимости, самоочевидно, что все люди созданы равными. С другой стороны, очевидно как раз то, что мы все не равны. Десять лет назад Дебора Соломон спросила Дональда Трампа, что он думает об идее о том, что «все люди созданы равными». Трамп ответил: «Это неправда». «Кто-то рождается умным, кто-то нет, кто-то красивым, кто-то нет, так что ни о каком равенстве от рождения не может быть и речи». Трамп признал, что все люди равны перед законом, но в заключение заметил, что фраза «Все люди созданы равными» — слишком запутанная для многих людей. Согласно опросам 2015 года, с ним согласны больше 20% американцев: они считают, что утверждение «Все люди созданы равными» ложно.
С точки зрения Уолдрона необязательно выбирать одно из двух; людей можно рассматривать как равных и неравных одновременно. Общество может разделять своих граждан на категории — законопослушные и преступники, гении и посредственности — и в то же время допускать некий принцип базового равенства в своих суждениях о людях, которые могут иногда меняться. Эгалитаристы вроде Дворкина и Уолдрона называют этот принцип «глубинным равенством». Именно оно позволяет нам считать, что даже те люди, которые заслуженно имеют особую ценность для общества, — герои, сенаторы, поп-звёзды — всё же в каком-то фундаментальном смысле ничем не лучше, чем любой другой человек. По той же причине, говорит Уолдрон, глубинное равенство позволяет видеть даже в самом омерзительном убийце члена человеческого рода «со всем достоинством и статусом отсюда вытекающими». Глубинное равенство — помимо прочего — подсказывает нам, что неправильно изолировать детей мигрантов в тюрьмах вне зависимости от их правового статуса. Уолдрон хочет найти источник этого глубинного равенства.
В своём исследовании он рассматривает многовековую интеллектуальную историю человечества. Многие мыслители, от Цицерона до Локка, утверждали, что равными нас делает способность к разумному мышлению. Но разве эта способность сама по себе не распределена неравным образом? Другие мыслители, включая Канта, уповали на наше моральное чувство. Но не сводит ли этот признак равенство к добродетели? Некоторые философы, такие как Иеремия Бентам, предполагали, что равными нас делает способность страдать. Но многие животные также могут страдать. Другие предлагали способность любить. Но как быть с эгоистами? На практике нам бы очень помогло определение чёткой основы для глубинного равенства. Если, скажем, оно основано на способности страдать, то Майкл и Анджела, должны спокойно поощрить свою дочь Алексис, которая рискует ослепнуть, дополнительной долей наследства. Однако Уолдрон не считает ни один из этих вариантов полностью убедительным.
В различных религиозных традициях, отмечает Уолдрон, равенство проистекает не только из того положения, что человек создан по образу и подобию бога, но и из того, что в каком-то смысле каждый из нас является героем эпопеи об ошибках, их осознании и искуплении: мы равны, потому что бог заботится о том, как всё обернётся для каждого из нас. Он замечает, что атеистам тоже не чужда мысль о равенстве как идее о том, что каждый из нас проживает свою собственную жизнь. Самого Уолдрона занимает концепция «натальности» Ханны Арендт — объединяющее всех нас представление о том, что каждый рождается «новичком», приходящим в мир «со способностью начинать что-то новое, действовать». Сама Арендт скептически относилась к поискам доказательств равенства; по её мнению, Холокост показал, что «нет ничего святого в абстрактной наготе человеческого бытия». Если это верно, то равенство может оказаться вовсе не самоочевидным свойством человечества, а рукотворным социальным конструктом, который мы пытаемся претворить в жизнь на практике.
В конце концов Уолдрон приходит к выводу о том, что нет «маленькой отшлифованной единой душеподобной субстанции», которая делала бы нас равными; есть только пёстрый набор аргументов в пользу нашего глубинного равенства, убедительных в общем, но ограниченных индивидуально. Равенство — это составная идея, связывающая наши взаимодополняющие и конкурирующие интуиции.
В своей книге «One Another’s Equals: The Basis of Human Equality», основанной на этих лекциях, Уолдрон отмечает, что люди также различаются по своим навыкам, опыту, изобретательности и добродетели. Он задаётся вопросом, в каком смысле мы вообще можем говорить о равенстве, учитывая такие существенные различия. Уолдрон верит в фундаментальное равенство людей, но, будучи философом, он хочет понять, почему он в это верит.
Согласно Декларации независимости, самоочевидно, что все люди созданы равными. С другой стороны, очевидно как раз то, что мы все не равны. Десять лет назад Дебора Соломон спросила Дональда Трампа, что он думает об идее о том, что «все люди созданы равными». Трамп ответил: «Это неправда». «Кто-то рождается умным, кто-то нет, кто-то красивым, кто-то нет, так что ни о каком равенстве от рождения не может быть и речи». Трамп признал, что все люди равны перед законом, но в заключение заметил, что фраза «Все люди созданы равными» — слишком запутанная для многих людей. Согласно опросам 2015 года, с ним согласны больше 20% американцев: они считают, что утверждение «Все люди созданы равными» ложно.
С точки зрения Уолдрона необязательно выбирать одно из двух; людей можно рассматривать как равных и неравных одновременно. Общество может разделять своих граждан на категории — законопослушные и преступники, гении и посредственности — и в то же время допускать некий принцип базового равенства в своих суждениях о людях, которые могут иногда меняться. Эгалитаристы вроде Дворкина и Уолдрона называют этот принцип «глубинным равенством». Именно оно позволяет нам считать, что даже те люди, которые заслуженно имеют особую ценность для общества, — герои, сенаторы, поп-звёзды — всё же в каком-то фундаментальном смысле ничем не лучше, чем любой другой человек. По той же причине, говорит Уолдрон, глубинное равенство позволяет видеть даже в самом омерзительном убийце члена человеческого рода «со всем достоинством и статусом отсюда вытекающими». Глубинное равенство — помимо прочего — подсказывает нам, что неправильно изолировать детей мигрантов в тюрьмах вне зависимости от их правового статуса. Уолдрон хочет найти источник этого глубинного равенства.
В своём исследовании он рассматривает многовековую интеллектуальную историю человечества. Многие мыслители, от Цицерона до Локка, утверждали, что равными нас делает способность к разумному мышлению. Но разве эта способность сама по себе не распределена неравным образом? Другие мыслители, включая Канта, уповали на наше моральное чувство. Но не сводит ли этот признак равенство к добродетели? Некоторые философы, такие как Иеремия Бентам, предполагали, что равными нас делает способность страдать. Но многие животные также могут страдать. Другие предлагали способность любить. Но как быть с эгоистами? На практике нам бы очень помогло определение чёткой основы для глубинного равенства. Если, скажем, оно основано на способности страдать, то Майкл и Анджела, должны спокойно поощрить свою дочь Алексис, которая рискует ослепнуть, дополнительной долей наследства. Однако Уолдрон не считает ни один из этих вариантов полностью убедительным.
В различных религиозных традициях, отмечает Уолдрон, равенство проистекает не только из того положения, что человек создан по образу и подобию бога, но и из того, что в каком-то смысле каждый из нас является героем эпопеи об ошибках, их осознании и искуплении: мы равны, потому что бог заботится о том, как всё обернётся для каждого из нас. Он замечает, что атеистам тоже не чужда мысль о равенстве как идее о том, что каждый из нас проживает свою собственную жизнь. Самого Уолдрона занимает концепция «натальности» Ханны Арендт — объединяющее всех нас представление о том, что каждый рождается «новичком», приходящим в мир «со способностью начинать что-то новое, действовать». Сама Арендт скептически относилась к поискам доказательств равенства; по её мнению, Холокост показал, что «нет ничего святого в абстрактной наготе человеческого бытия». Если это верно, то равенство может оказаться вовсе не самоочевидным свойством человечества, а рукотворным социальным конструктом, который мы пытаемся претворить в жизнь на практике.
В конце концов Уолдрон приходит к выводу о том, что нет «маленькой отшлифованной единой душеподобной субстанции», которая делала бы нас равными; есть только пёстрый набор аргументов в пользу нашего глубинного равенства, убедительных в общем, но ограниченных индивидуально. Равенство — это составная идея, связывающая наши взаимодополняющие и конкурирующие интуиции.
Размытая природа равенства затрудняет преодоление эгалитарных дилемм с помощью первоначальных принципов. Мы должны продвигаться вперед на ощупь, примиряя конфликтующие интуиции о значении равенства. Глубинное равенство остаётся важной идеей — оно говорит нам, помимо прочего, об ошибочности дискриминации и нетерпимости. Но его недостаточно для определения того, как сообщество должно распределять свои блага. Для этого идею глубинного равенства следует дополнить другими, более тонкими принципами.
Проще всего это даётся сообществам, которые имеются чётко определённую общую цель. Спринтеры, соревнующиеся в беге на 100 метров, имеют разные способности и тренируются в разных условиях; в определённом смысле эти различия делают каждую гонку несправедливой. Как вы можете соревноваться с кем-то, кому больше повезло с генами? Но бегуны образуют эгалитарные сообщества с общей целью — выявить самого быстрого. Для этого они вводят правила и процедуры (отборочные забеги, запрет на допинг), которые позволяют им считать забег честным. Приняв согласованную теорию равенства до начала гонки, бегуны находят коллективный смысл в неравном ранжировании, которым она заканчивается. Точно так же в здравоохранении мы можем определить, кому следует отдавать приоритет, приняв такую теорию равенства, в которой, скажем, игнорируется богатство пациентов и учитывается их состояние здоровья. Единственное, что здесь имеет значение, это то, что принятая теория имеет смысл для всех участников.
Поддержание таких соглашений требует постоянной работы, поэтому эгалитарные сообщества всегда подвержены риску распада. Тем не менее эгалитарный ландшафт усеян островками согласия: коммуны, кооперативы и хорошо организованные соревнования, в которых общая теория равенства используется с определённой практической целью. Отдельно взятая семья может разделить обязанности по дому, приняв теорию равенства, в которой такие неприятные обязанности, как уборка в ванной комнате, чередуются с гораздо более приятными, вроде выгула собаки. Такого рода самодельный эгалитаризм легко достигается. В масштабах всего общества это уже не так. Мы не можем сесть в одной комнате и договориться обо всём. Консенсус в этом случае достигается медленно и вокруг гораздо более общих эгалитарных принципов.
При этом нет совершенных принципов равенства, каждый содержит скрытые опасности, которые проявляются со временем. В деле распределения благ многие предпочитают принцип необходимости — идею о том, что прежде всего нам нужно добиться равного удовлетворения основных потребностей. Скрытая опасность в этом случае проявляется, когда мы пытаемся определить порог этих основных потребностей. Находясь на военной службе, Фёдор Достоевский писал домой отцу с просьбой выслать ему новые ботинки и другие предметы убранства. Михаил Андреевич хоть и был помещиком, находился в трудном финансовом положении. Но Фёдор Михайлович утверждал, что без этих вещей его могут подвергнуть остракизму сослуживцы. Михаил Андреевич признал важность изменившихся потребностей сына и удовлетворил его просьбу. Вскоре он погиб при загадочных обстоятельствах, и Достоевский пришёл к убеждению, что его убили крепостные, которых он перегрузил работой. Этот эпизод, вдохновивший писателя на «Братьев Карамазовых», иллюстрирует одну из самых мучительных для эгалитаризма проблем — «проблему дорогостоящих вкусов».
Что одному человеку кажется необходимостью, для другого может быть роскошью — с этой проблемой хорошо знакомы те, кто имеет супругов-гурманов и вынужден делить с ними расходы на еду. И речь здесь необязательно идёт о материальных благах. Защитник окружающей среды считает спасение пятнистой совы необходимостью, в то время как для лесоруба, который рискует потерять из-за этого работу, это роскошь. Проблема оказалась настолько запутанной, что в философии даже возникло целое направление — «prioritarianism» (общепринятой русской транскрипции нет — прим.пер.), — которое занимается различением потребностей и желаний. Отчасти трудность заключается в том, что представления о потребностях меняются во времени. Медицинские процедуры, которые сегодня кажутся необязательными, завтра могут стать необходимостью; высшее образование, которое когда-то считалось исключительным, становится всё более незаменимым атрибутом. Национальное бюро экономических исследований признало «Войну с бедностью» Линдона Джонсона успешной, потому что по принятым в годы его президентства критериям бедность снизилась с 19,5% в 1963 году до 2,3% в 2017-м. В статье при этом отмечается, что «представления о минимальном уровне жизни развиваются». Сегодня применение мер программы «Войны с бедностью» — продовольственные талоны, Medicaid и прочее — само по себе является признаком бедности. Теперь нашими эгалитарными требованиями стали бесплатное высшее образование и Medicare for All.
Некоторые мыслители пытались преодолеть проблему дорогостоящих предпочтений с помощью понятия о потребностях «нормального» или «типичного» человека. При этом легко вывести несправедливые суждения из слишком узких представлений о нормальности. В своей влиятельной статье 1999 года под названием «What Is the Point of Equality?» Элизабет Андерсон указала на странную особенность нашего социального законодательства: если вас уволили с работы, то вы можете претендовать на пособие, но если вы уходите в декретный отпуск, то оплачиваете его сами. Это противоречие, пишет она, высвечивает то молчаливое предположение, что «желание иметь детей это просто ещё одно дорогостоящие пристрастие»; по её мнению, это отражает сексисткий предрассудок о том, что «атомистический эгоизм и самодостаточность» это норма. Слово «необходимость» предполагает абсолютный минимум. На деле, планка может быть довольно высокой, и для её прояснения может потребоваться переосмысление того, как вообще функционирует общество.
Проще всего это даётся сообществам, которые имеются чётко определённую общую цель. Спринтеры, соревнующиеся в беге на 100 метров, имеют разные способности и тренируются в разных условиях; в определённом смысле эти различия делают каждую гонку несправедливой. Как вы можете соревноваться с кем-то, кому больше повезло с генами? Но бегуны образуют эгалитарные сообщества с общей целью — выявить самого быстрого. Для этого они вводят правила и процедуры (отборочные забеги, запрет на допинг), которые позволяют им считать забег честным. Приняв согласованную теорию равенства до начала гонки, бегуны находят коллективный смысл в неравном ранжировании, которым она заканчивается. Точно так же в здравоохранении мы можем определить, кому следует отдавать приоритет, приняв такую теорию равенства, в которой, скажем, игнорируется богатство пациентов и учитывается их состояние здоровья. Единственное, что здесь имеет значение, это то, что принятая теория имеет смысл для всех участников.
Поддержание таких соглашений требует постоянной работы, поэтому эгалитарные сообщества всегда подвержены риску распада. Тем не менее эгалитарный ландшафт усеян островками согласия: коммуны, кооперативы и хорошо организованные соревнования, в которых общая теория равенства используется с определённой практической целью. Отдельно взятая семья может разделить обязанности по дому, приняв теорию равенства, в которой такие неприятные обязанности, как уборка в ванной комнате, чередуются с гораздо более приятными, вроде выгула собаки. Такого рода самодельный эгалитаризм легко достигается. В масштабах всего общества это уже не так. Мы не можем сесть в одной комнате и договориться обо всём. Консенсус в этом случае достигается медленно и вокруг гораздо более общих эгалитарных принципов.
При этом нет совершенных принципов равенства, каждый содержит скрытые опасности, которые проявляются со временем. В деле распределения благ многие предпочитают принцип необходимости — идею о том, что прежде всего нам нужно добиться равного удовлетворения основных потребностей. Скрытая опасность в этом случае проявляется, когда мы пытаемся определить порог этих основных потребностей. Находясь на военной службе, Фёдор Достоевский писал домой отцу с просьбой выслать ему новые ботинки и другие предметы убранства. Михаил Андреевич хоть и был помещиком, находился в трудном финансовом положении. Но Фёдор Михайлович утверждал, что без этих вещей его могут подвергнуть остракизму сослуживцы. Михаил Андреевич признал важность изменившихся потребностей сына и удовлетворил его просьбу. Вскоре он погиб при загадочных обстоятельствах, и Достоевский пришёл к убеждению, что его убили крепостные, которых он перегрузил работой. Этот эпизод, вдохновивший писателя на «Братьев Карамазовых», иллюстрирует одну из самых мучительных для эгалитаризма проблем — «проблему дорогостоящих вкусов».
Что одному человеку кажется необходимостью, для другого может быть роскошью — с этой проблемой хорошо знакомы те, кто имеет супругов-гурманов и вынужден делить с ними расходы на еду. И речь здесь необязательно идёт о материальных благах. Защитник окружающей среды считает спасение пятнистой совы необходимостью, в то время как для лесоруба, который рискует потерять из-за этого работу, это роскошь. Проблема оказалась настолько запутанной, что в философии даже возникло целое направление — «prioritarianism» (общепринятой русской транскрипции нет — прим.пер.), — которое занимается различением потребностей и желаний. Отчасти трудность заключается в том, что представления о потребностях меняются во времени. Медицинские процедуры, которые сегодня кажутся необязательными, завтра могут стать необходимостью; высшее образование, которое когда-то считалось исключительным, становится всё более незаменимым атрибутом. Национальное бюро экономических исследований признало «Войну с бедностью» Линдона Джонсона успешной, потому что по принятым в годы его президентства критериям бедность снизилась с 19,5% в 1963 году до 2,3% в 2017-м. В статье при этом отмечается, что «представления о минимальном уровне жизни развиваются». Сегодня применение мер программы «Войны с бедностью» — продовольственные талоны, Medicaid и прочее — само по себе является признаком бедности. Теперь нашими эгалитарными требованиями стали бесплатное высшее образование и Medicare for All.
Некоторые мыслители пытались преодолеть проблему дорогостоящих предпочтений с помощью понятия о потребностях «нормального» или «типичного» человека. При этом легко вывести несправедливые суждения из слишком узких представлений о нормальности. В своей влиятельной статье 1999 года под названием «What Is the Point of Equality?» Элизабет Андерсон указала на странную особенность нашего социального законодательства: если вас уволили с работы, то вы можете претендовать на пособие, но если вы уходите в декретный отпуск, то оплачиваете его сами. Это противоречие, пишет она, высвечивает то молчаливое предположение, что «желание иметь детей это просто ещё одно дорогостоящие пристрастие»; по её мнению, это отражает сексисткий предрассудок о том, что «атомистический эгоизм и самодостаточность» это норма. Слово «необходимость» предполагает абсолютный минимум. На деле, планка может быть довольно высокой, и для её прояснения может потребоваться переосмысление того, как вообще функционирует общество.
Размытая природа равенства затрудняет преодоление эгалитарных дилемм с помощью первоначальных принципов. Мы должны продвигаться вперед на ощупь, примиряя конфликтующие интуиции о значении равенства. Глубинное равенство остаётся важной идеей — оно говорит нам, помимо прочего, об ошибочности дискриминации и нетерпимости. Но его недостаточно для определения того, как сообщество должно распределять свои блага. Для этого идею глубинного равенства следует дополнить другими, более тонкими принципами.
Проще всего это даётся сообществам, которые имеются чётко определённую общую цель. Спринтеры, соревнующиеся в беге на 100 метров, имеют разные способности и тренируются в разных условиях; в определённом смысле эти различия делают каждую гонку несправедливой. Как вы можете соревноваться с кем-то, кому больше повезло с генами? Но бегуны образуют эгалитарные сообщества с общей целью — выявить самого быстрого. Для этого они вводят правила и процедуры (отборочные забеги, запрет на допинг), которые позволяют им считать забег честным. Приняв согласованную теорию равенства до начала гонки, бегуны находят коллективный смысл в неравном ранжировании, которым она заканчивается. Точно так же в здравоохранении мы можем определить, кому следует отдавать приоритет, приняв такую теорию равенства, в которой, скажем, игнорируется богатство пациентов и учитывается их состояние здоровья. Единственное, что здесь имеет значение, это то, что принятая теория имеет смысл для всех участников.
Поддержание таких соглашений требует постоянной работы, поэтому эгалитарные сообщества всегда подвержены риску распада. Тем не менее эгалитарный ландшафт усеян островками согласия: коммуны, кооперативы и хорошо организованные соревнования, в которых общая теория равенства используется с определённой практической целью. Отдельно взятая семья может разделить обязанности по дому, приняв теорию равенства, в которой такие неприятные обязанности, как уборка в ванной комнате, чередуются с гораздо более приятными, вроде выгула собаки. Такого рода самодельный эгалитаризм легко достигается. В масштабах всего общества это уже не так. Мы не можем сесть в одной комнате и договориться обо всём. Консенсус в этом случае достигается медленно и вокруг гораздо более общих эгалитарных принципов.
При этом нет совершенных принципов равенства, каждый содержит скрытые опасности, которые проявляются со временем. В деле распределения благ многие предпочитают принцип необходимости — идею о том, что прежде всего нам нужно добиться равного удовлетворения основных потребностей. Скрытая опасность в этом случае проявляется, когда мы пытаемся определить порог этих основных потребностей. Находясь на военной службе, Фёдор Достоевский писал домой отцу с просьбой выслать ему новые ботинки и другие предметы убранства. Михаил Андреевич хоть и был помещиком, находился в трудном финансовом положении. Но Фёдор Михайлович утверждал, что без этих вещей его могут подвергнуть остракизму сослуживцы. Михаил Андреевич признал важность изменившихся потребностей сына и удовлетворил его просьбу. Вскоре он погиб при загадочных обстоятельствах, и Достоевский пришёл к убеждению, что его убили крепостные, которых он перегрузил работой. Этот эпизод, вдохновивший писателя на «Братьев Карамазовых», иллюстрирует одну из самых мучительных для эгалитаризма проблем — «проблему дорогостоящих вкусов».
Что одному человеку кажется необходимостью, для другого может быть роскошью — с этой проблемой хорошо знакомы те, кто имеет супругов-гурманов и вынужден делить с ними расходы на еду. И речь здесь необязательно идёт о материальных благах. Защитник окружающей среды считает спасение пятнистой совы необходимостью, в то время как для лесоруба, который рискует потерять из-за этого работу, это роскошь. Проблема оказалась настолько запутанной, что в философии даже возникло целое направление — «prioritarianism» (общепринятой русской транскрипции нет — прим.пер.), — которое занимается различением потребностей и желаний. Отчасти трудность заключается в том, что представления о потребностях меняются во времени. Медицинские процедуры, которые сегодня кажутся необязательными, завтра могут стать необходимостью; высшее образование, которое когда-то считалось исключительным, становится всё более незаменимым атрибутом. Национальное бюро экономических исследований признало «Войну с бедностью» Линдона Джонсона успешной, потому что по принятым в годы его президентства критериям бедность снизилась с 19,5% в 1963 году до 2,3% в 2017-м. В статье при этом отмечается, что «представления о минимальном уровне жизни развиваются». Сегодня применение мер программы «Войны с бедностью» — продовольственные талоны, Medicaid и прочее — само по себе является признаком бедности. Теперь нашими эгалитарными требованиями стали бесплатное высшее образование и Medicare for All.
Некоторые мыслители пытались преодолеть проблему дорогостоящих предпочтений с помощью понятия о потребностях «нормального» или «типичного» человека. При этом легко вывести несправедливые суждения из слишком узких представлений о нормальности. В своей влиятельной статье 1999 года под названием «What Is the Point of Equality?» Элизабет Андерсон указала на странную особенность нашего социального законодательства: если вас уволили с работы, то вы можете претендовать на пособие, но если вы уходите в декретный отпуск, то оплачиваете его сами. Это противоречие, пишет она, высвечивает то молчаливое предположение, что «желание иметь детей это просто ещё одно дорогостоящие пристрастие»; по её мнению, это отражает сексисткий предрассудок о том, что «атомистический эгоизм и самодостаточность» это норма. Слово «необходимость» предполагает абсолютный минимум. На деле, планка может быть довольно высокой, и для её прояснения может потребоваться переосмысление того, как вообще функционирует общество.
Проще всего это даётся сообществам, которые имеются чётко определённую общую цель. Спринтеры, соревнующиеся в беге на 100 метров, имеют разные способности и тренируются в разных условиях; в определённом смысле эти различия делают каждую гонку несправедливой. Как вы можете соревноваться с кем-то, кому больше повезло с генами? Но бегуны образуют эгалитарные сообщества с общей целью — выявить самого быстрого. Для этого они вводят правила и процедуры (отборочные забеги, запрет на допинг), которые позволяют им считать забег честным. Приняв согласованную теорию равенства до начала гонки, бегуны находят коллективный смысл в неравном ранжировании, которым она заканчивается. Точно так же в здравоохранении мы можем определить, кому следует отдавать приоритет, приняв такую теорию равенства, в которой, скажем, игнорируется богатство пациентов и учитывается их состояние здоровья. Единственное, что здесь имеет значение, это то, что принятая теория имеет смысл для всех участников.
Поддержание таких соглашений требует постоянной работы, поэтому эгалитарные сообщества всегда подвержены риску распада. Тем не менее эгалитарный ландшафт усеян островками согласия: коммуны, кооперативы и хорошо организованные соревнования, в которых общая теория равенства используется с определённой практической целью. Отдельно взятая семья может разделить обязанности по дому, приняв теорию равенства, в которой такие неприятные обязанности, как уборка в ванной комнате, чередуются с гораздо более приятными, вроде выгула собаки. Такого рода самодельный эгалитаризм легко достигается. В масштабах всего общества это уже не так. Мы не можем сесть в одной комнате и договориться обо всём. Консенсус в этом случае достигается медленно и вокруг гораздо более общих эгалитарных принципов.
При этом нет совершенных принципов равенства, каждый содержит скрытые опасности, которые проявляются со временем. В деле распределения благ многие предпочитают принцип необходимости — идею о том, что прежде всего нам нужно добиться равного удовлетворения основных потребностей. Скрытая опасность в этом случае проявляется, когда мы пытаемся определить порог этих основных потребностей. Находясь на военной службе, Фёдор Достоевский писал домой отцу с просьбой выслать ему новые ботинки и другие предметы убранства. Михаил Андреевич хоть и был помещиком, находился в трудном финансовом положении. Но Фёдор Михайлович утверждал, что без этих вещей его могут подвергнуть остракизму сослуживцы. Михаил Андреевич признал важность изменившихся потребностей сына и удовлетворил его просьбу. Вскоре он погиб при загадочных обстоятельствах, и Достоевский пришёл к убеждению, что его убили крепостные, которых он перегрузил работой. Этот эпизод, вдохновивший писателя на «Братьев Карамазовых», иллюстрирует одну из самых мучительных для эгалитаризма проблем — «проблему дорогостоящих вкусов».
Что одному человеку кажется необходимостью, для другого может быть роскошью — с этой проблемой хорошо знакомы те, кто имеет супругов-гурманов и вынужден делить с ними расходы на еду. И речь здесь необязательно идёт о материальных благах. Защитник окружающей среды считает спасение пятнистой совы необходимостью, в то время как для лесоруба, который рискует потерять из-за этого работу, это роскошь. Проблема оказалась настолько запутанной, что в философии даже возникло целое направление — «prioritarianism» (общепринятой русской транскрипции нет — прим.пер.), — которое занимается различением потребностей и желаний. Отчасти трудность заключается в том, что представления о потребностях меняются во времени. Медицинские процедуры, которые сегодня кажутся необязательными, завтра могут стать необходимостью; высшее образование, которое когда-то считалось исключительным, становится всё более незаменимым атрибутом. Национальное бюро экономических исследований признало «Войну с бедностью» Линдона Джонсона успешной, потому что по принятым в годы его президентства критериям бедность снизилась с 19,5% в 1963 году до 2,3% в 2017-м. В статье при этом отмечается, что «представления о минимальном уровне жизни развиваются». Сегодня применение мер программы «Войны с бедностью» — продовольственные талоны, Medicaid и прочее — само по себе является признаком бедности. Теперь нашими эгалитарными требованиями стали бесплатное высшее образование и Medicare for All.
Некоторые мыслители пытались преодолеть проблему дорогостоящих предпочтений с помощью понятия о потребностях «нормального» или «типичного» человека. При этом легко вывести несправедливые суждения из слишком узких представлений о нормальности. В своей влиятельной статье 1999 года под названием «What Is the Point of Equality?» Элизабет Андерсон указала на странную особенность нашего социального законодательства: если вас уволили с работы, то вы можете претендовать на пособие, но если вы уходите в декретный отпуск, то оплачиваете его сами. Это противоречие, пишет она, высвечивает то молчаливое предположение, что «желание иметь детей это просто ещё одно дорогостоящие пристрастие»; по её мнению, это отражает сексисткий предрассудок о том, что «атомистический эгоизм и самодостаточность» это норма. Слово «необходимость» предполагает абсолютный минимум. На деле, планка может быть довольно высокой, и для её прояснения может потребоваться переосмысление того, как вообще функционирует общество.
Возможно, раз уж понятие потребностей оказалось столь требовательным, наша приверженность эгалитаризму может основываться на другом принципе — удаче. Философ Ричард Арнесон описал этот подход так: «Некоторых людей благословила удача, некоторых же прокляла неудача, и на обществе — то есть на всех нас вместе взятых — лежит ответственность за преодоление тех перекосов в распределении благ, которые возникли из тех случайностей, которые составляют человеческую жизнь, какой мы её знаем». Андерсон называла этот взгляд «эгалитаризмом удачи».
Вместо того, чтобы спрашивать о потребностях людей, эгалитаризм удачи пытается устранить последствия неравномерного распределения несчастий. Если вы родились не на той стороне дороги или ваш дом разрушен в результате непредсказуемого стихийного бедствия, вы заслуживаете помощи, согласно эгалитаризму удачи. Если же вы облажались, растратив сбережения или запустив провальный бизнес, это ваши проблемы. Именно эгалитаризму удачи мы обязаны метафорами «равных условий игры» и «сети социальной безопасности» («level playing field» и «social safety net» — прим.пер.). В первой речь идёт о врождённых неудачных условиях, во второй — о неудачах, настигающих нас в зрелом возрасте.
Как американцы мы разрываемся между двумя конфликтующими ценностями: индивидуализм и эгалитаризм. Эгалитаризм удачи пытается их примирить, сглаживая незаслуженные неравенства и сохраняя те, за которые мы отвечаем сами. Но, как показывают Андерсон и другие, это только звучит просто. Во-первых, эгалитаризм удачи принижает тех, кому он способствует: принимая человека за жертву обстоятельств, вы лишаете его «равного уважения» как гражданина демократии. Возможно, именно по этой причине те, кто мог бы выиграть от расширения государственных программ, так часто голосует против них.
Во-вторых, как показывает политический теоретик Яша Мунк в своей работе «The Age of Responsibility: Luck, Choice, and the Welfare State», трудно определить разницу между выбором и удачей. Если вас уволили, потому что вы постоянно опаздывали на работу из-за желания подольше поспать утром, то, очевидно, вы сами сделали плохой выбор. Но что если при этом вы родились в семье с достатком в районе черты бедности и вынуждены бросить школу, чтобы пойти на бесперспективную работу? По всей видимости, вы пострадали и от неудачных условий от рождения, и от собственного плохого выбора. Предположим, вы отказываетесь от поступления в университет, чтобы попасть на работу на автозавод, где трудятся ваши родители, и затем завод закрывается. Вы не можете нести ответственность за закрытие завода, но решение не поступать в университет было за вами. Если вы получите больше навыков, ваши шансы получить работу повысятся? Или же силы глобализации, что закрыли тот автозавод, таким же образом сведут на нет ваши перспективы найти хорошую работу вне зависимости от вашей подготовки? Вы можете обдумывать такие вопросы бессонными ночами, и они будут оставаться без ответа; абсурдно, пишет Мунк, ожидать, что «реальная государственная бюрократия ответит на такие сложные гипотетические вопросы, касающиеся миллионов людей».
Различение выбора и удачи, говорит он, это вопрос не фактов, а перспективы. Объяснения человеческого поведения традиционно разделяют на две группы: сфокусированные на силах, которые толкают нас извне, и подчёркивающие наши возможности как индивидов для противостояния этим силам. Одно и то же явление можно рассматривать с двух позиций так называемого структурно-агентного различия. Большую часть двадцатого века, пишет Мунк, криминологи рассматривали преступность как структурное явление: они призывали политиков бороться с бедностью как первопричиной преступности. Позже, однако, они сменили тактику и начали рассматривать мотивацию каждого преступника, задаваясь вопросом о том, как можно было отговорить его от совершения преступления. По словам Мунка, криминологи не отказались от своих прежних представлений о бедности, они просто посмотрели на преступность с другой точки зрения. Агентный подход оказался полезен для полицейских, которые не могут поднять свой район из бедности, но могут изменить свои методы патрулирования.
Мунк думает, что большинство людей инстинктивно понимают, что различие между структурными и агентными причинами — как и различие между «природой» и «воспитанием» — есть просто артефакт объяснения, а не самой реальности. Любое объяснение, как мы знаем, ограничено и не даёт всей картины. Из-за этого, пишет Мунк, эгалитаризм удачи и следующие ему политики вызывают у нас двойственные чувства. Консерваторы, призывающие к сокращению социальных гарантий, преувеличивают ту меру, в которой люди контролируют свою жизнь; либералы, наоборот, преувеличивают наше бессилие. Обе позиции неубедительны. «Избиратели восприимчивы к идее о том, что несправедливо финансировать одни школы лучше, чем другие, и вместе с тем они упираются, когда слышат, что те, кто хорошо учится в школе, просто счастливчики», — пишет Мунк. «Хотя они и признают, что причины понижения уровня жизни среднего класса кроются в больших структурных трансформациях мировой экономики, они всё ещё скептически относятся к утверждению о том, что экономические перспективы каждого отдельного человека не находятся в его руках».
Вместо того, чтобы спрашивать о потребностях людей, эгалитаризм удачи пытается устранить последствия неравномерного распределения несчастий. Если вы родились не на той стороне дороги или ваш дом разрушен в результате непредсказуемого стихийного бедствия, вы заслуживаете помощи, согласно эгалитаризму удачи. Если же вы облажались, растратив сбережения или запустив провальный бизнес, это ваши проблемы. Именно эгалитаризму удачи мы обязаны метафорами «равных условий игры» и «сети социальной безопасности» («level playing field» и «social safety net» — прим.пер.). В первой речь идёт о врождённых неудачных условиях, во второй — о неудачах, настигающих нас в зрелом возрасте.
Как американцы мы разрываемся между двумя конфликтующими ценностями: индивидуализм и эгалитаризм. Эгалитаризм удачи пытается их примирить, сглаживая незаслуженные неравенства и сохраняя те, за которые мы отвечаем сами. Но, как показывают Андерсон и другие, это только звучит просто. Во-первых, эгалитаризм удачи принижает тех, кому он способствует: принимая человека за жертву обстоятельств, вы лишаете его «равного уважения» как гражданина демократии. Возможно, именно по этой причине те, кто мог бы выиграть от расширения государственных программ, так часто голосует против них.
Во-вторых, как показывает политический теоретик Яша Мунк в своей работе «The Age of Responsibility: Luck, Choice, and the Welfare State», трудно определить разницу между выбором и удачей. Если вас уволили, потому что вы постоянно опаздывали на работу из-за желания подольше поспать утром, то, очевидно, вы сами сделали плохой выбор. Но что если при этом вы родились в семье с достатком в районе черты бедности и вынуждены бросить школу, чтобы пойти на бесперспективную работу? По всей видимости, вы пострадали и от неудачных условий от рождения, и от собственного плохого выбора. Предположим, вы отказываетесь от поступления в университет, чтобы попасть на работу на автозавод, где трудятся ваши родители, и затем завод закрывается. Вы не можете нести ответственность за закрытие завода, но решение не поступать в университет было за вами. Если вы получите больше навыков, ваши шансы получить работу повысятся? Или же силы глобализации, что закрыли тот автозавод, таким же образом сведут на нет ваши перспективы найти хорошую работу вне зависимости от вашей подготовки? Вы можете обдумывать такие вопросы бессонными ночами, и они будут оставаться без ответа; абсурдно, пишет Мунк, ожидать, что «реальная государственная бюрократия ответит на такие сложные гипотетические вопросы, касающиеся миллионов людей».
Различение выбора и удачи, говорит он, это вопрос не фактов, а перспективы. Объяснения человеческого поведения традиционно разделяют на две группы: сфокусированные на силах, которые толкают нас извне, и подчёркивающие наши возможности как индивидов для противостояния этим силам. Одно и то же явление можно рассматривать с двух позиций так называемого структурно-агентного различия. Большую часть двадцатого века, пишет Мунк, криминологи рассматривали преступность как структурное явление: они призывали политиков бороться с бедностью как первопричиной преступности. Позже, однако, они сменили тактику и начали рассматривать мотивацию каждого преступника, задаваясь вопросом о том, как можно было отговорить его от совершения преступления. По словам Мунка, криминологи не отказались от своих прежних представлений о бедности, они просто посмотрели на преступность с другой точки зрения. Агентный подход оказался полезен для полицейских, которые не могут поднять свой район из бедности, но могут изменить свои методы патрулирования.
Мунк думает, что большинство людей инстинктивно понимают, что различие между структурными и агентными причинами — как и различие между «природой» и «воспитанием» — есть просто артефакт объяснения, а не самой реальности. Любое объяснение, как мы знаем, ограничено и не даёт всей картины. Из-за этого, пишет Мунк, эгалитаризм удачи и следующие ему политики вызывают у нас двойственные чувства. Консерваторы, призывающие к сокращению социальных гарантий, преувеличивают ту меру, в которой люди контролируют свою жизнь; либералы, наоборот, преувеличивают наше бессилие. Обе позиции неубедительны. «Избиратели восприимчивы к идее о том, что несправедливо финансировать одни школы лучше, чем другие, и вместе с тем они упираются, когда слышат, что те, кто хорошо учится в школе, просто счастливчики», — пишет Мунк. «Хотя они и признают, что причины понижения уровня жизни среднего класса кроются в больших структурных трансформациях мировой экономики, они всё ещё скептически относятся к утверждению о том, что экономические перспективы каждого отдельного человека не находятся в его руках».
Возможно, раз уж понятие потребностей оказалось столь требовательным, наша приверженность эгалитаризму может основываться на другом принципе — удаче. Философ Ричард Арнесон описал этот подход так: «Некоторых людей благословила удача, некоторых же прокляла неудача, и на обществе — то есть на всех нас вместе взятых — лежит ответственность за преодоление тех перекосов в распределении благ, которые возникли из тех случайностей, которые составляют человеческую жизнь, какой мы её знаем». Андерсон называла этот взгляд «эгалитаризмом удачи».
Вместо того, чтобы спрашивать о потребностях людей, эгалитаризм удачи пытается устранить последствия неравномерного распределения несчастий. Если вы родились не на той стороне дороги или ваш дом разрушен в результате непредсказуемого стихийного бедствия, вы заслуживаете помощи, согласно эгалитаризму удачи. Если же вы облажались, растратив сбережения или запустив провальный бизнес, это ваши проблемы. Именно эгалитаризму удачи мы обязаны метафорами «равных условий игры» и «сети социальной безопасности» («level playing field» и «social safety net» — прим.пер.). В первой речь идёт о врождённых неудачных условиях, во второй — о неудачах, настигающих нас в зрелом возрасте.
Как американцы мы разрываемся между двумя конфликтующими ценностями: индивидуализм и эгалитаризм. Эгалитаризм удачи пытается их примирить, сглаживая незаслуженные неравенства и сохраняя те, за которые мы отвечаем сами. Но, как показывают Андерсон и другие, это только звучит просто. Во-первых, эгалитаризм удачи принижает тех, кому он способствует: принимая человека за жертву обстоятельств, вы лишаете его «равного уважения» как гражданина демократии. Возможно, именно по этой причине те, кто мог бы выиграть от расширения государственных программ, так часто голосует против них.
Во-вторых, как показывает политический теоретик Яша Мунк в своей работе «The Age of Responsibility: Luck, Choice, and the Welfare State», трудно определить разницу между выбором и удачей. Если вас уволили, потому что вы постоянно опаздывали на работу из-за желания подольше поспать утром, то, очевидно, вы сами сделали плохой выбор. Но что если при этом вы родились в семье с достатком в районе черты бедности и вынуждены бросить школу, чтобы пойти на бесперспективную работу? По всей видимости, вы пострадали и от неудачных условий от рождения, и от собственного плохого выбора. Предположим, вы отказываетесь от поступления в университет, чтобы попасть на работу на автозавод, где трудятся ваши родители, и затем завод закрывается. Вы не можете нести ответственность за закрытие завода, но решение не поступать в университет было за вами. Если вы получите больше навыков, ваши шансы получить работу повысятся? Или же силы глобализации, что закрыли тот автозавод, таким же образом сведут на нет ваши перспективы найти хорошую работу вне зависимости от вашей подготовки? Вы можете обдумывать такие вопросы бессонными ночами, и они будут оставаться без ответа; абсурдно, пишет Мунк, ожидать, что «реальная государственная бюрократия ответит на такие сложные гипотетические вопросы, касающиеся миллионов людей».
Различение выбора и удачи, говорит он, это вопрос не фактов, а перспективы. Объяснения человеческого поведения традиционно разделяют на две группы: сфокусированные на силах, которые толкают нас извне, и подчёркивающие наши возможности как индивидов для противостояния этим силам. Одно и то же явление можно рассматривать с двух позиций так называемого структурно-агентного различия. Большую часть двадцатого века, пишет Мунк, криминологи рассматривали преступность как структурное явление: они призывали политиков бороться с бедностью как первопричиной преступности. Позже, однако, они сменили тактику и начали рассматривать мотивацию каждого преступника, задаваясь вопросом о том, как можно было отговорить его от совершения преступления. По словам Мунка, криминологи не отказались от своих прежних представлений о бедности, они просто посмотрели на преступность с другой точки зрения. Агентный подход оказался полезен для полицейских, которые не могут поднять свой район из бедности, но могут изменить свои методы патрулирования.
Мунк думает, что большинство людей инстинктивно понимают, что различие между структурными и агентными причинами — как и различие между «природой» и «воспитанием» — есть просто артефакт объяснения, а не самой реальности. Любое объяснение, как мы знаем, ограничено и не даёт всей картины. Из-за этого, пишет Мунк, эгалитаризм удачи и следующие ему политики вызывают у нас двойственные чувства. Консерваторы, призывающие к сокращению социальных гарантий, преувеличивают ту меру, в которой люди контролируют свою жизнь; либералы, наоборот, преувеличивают наше бессилие. Обе позиции неубедительны. «Избиратели восприимчивы к идее о том, что несправедливо финансировать одни школы лучше, чем другие, и вместе с тем они упираются, когда слышат, что те, кто хорошо учится в школе, просто счастливчики», — пишет Мунк. «Хотя они и признают, что причины понижения уровня жизни среднего класса кроются в больших структурных трансформациях мировой экономики, они всё ещё скептически относятся к утверждению о том, что экономические перспективы каждого отдельного человека не находятся в его руках».
Вместо того, чтобы спрашивать о потребностях людей, эгалитаризм удачи пытается устранить последствия неравномерного распределения несчастий. Если вы родились не на той стороне дороги или ваш дом разрушен в результате непредсказуемого стихийного бедствия, вы заслуживаете помощи, согласно эгалитаризму удачи. Если же вы облажались, растратив сбережения или запустив провальный бизнес, это ваши проблемы. Именно эгалитаризму удачи мы обязаны метафорами «равных условий игры» и «сети социальной безопасности» («level playing field» и «social safety net» — прим.пер.). В первой речь идёт о врождённых неудачных условиях, во второй — о неудачах, настигающих нас в зрелом возрасте.
Как американцы мы разрываемся между двумя конфликтующими ценностями: индивидуализм и эгалитаризм. Эгалитаризм удачи пытается их примирить, сглаживая незаслуженные неравенства и сохраняя те, за которые мы отвечаем сами. Но, как показывают Андерсон и другие, это только звучит просто. Во-первых, эгалитаризм удачи принижает тех, кому он способствует: принимая человека за жертву обстоятельств, вы лишаете его «равного уважения» как гражданина демократии. Возможно, именно по этой причине те, кто мог бы выиграть от расширения государственных программ, так часто голосует против них.
Во-вторых, как показывает политический теоретик Яша Мунк в своей работе «The Age of Responsibility: Luck, Choice, and the Welfare State», трудно определить разницу между выбором и удачей. Если вас уволили, потому что вы постоянно опаздывали на работу из-за желания подольше поспать утром, то, очевидно, вы сами сделали плохой выбор. Но что если при этом вы родились в семье с достатком в районе черты бедности и вынуждены бросить школу, чтобы пойти на бесперспективную работу? По всей видимости, вы пострадали и от неудачных условий от рождения, и от собственного плохого выбора. Предположим, вы отказываетесь от поступления в университет, чтобы попасть на работу на автозавод, где трудятся ваши родители, и затем завод закрывается. Вы не можете нести ответственность за закрытие завода, но решение не поступать в университет было за вами. Если вы получите больше навыков, ваши шансы получить работу повысятся? Или же силы глобализации, что закрыли тот автозавод, таким же образом сведут на нет ваши перспективы найти хорошую работу вне зависимости от вашей подготовки? Вы можете обдумывать такие вопросы бессонными ночами, и они будут оставаться без ответа; абсурдно, пишет Мунк, ожидать, что «реальная государственная бюрократия ответит на такие сложные гипотетические вопросы, касающиеся миллионов людей».
Различение выбора и удачи, говорит он, это вопрос не фактов, а перспективы. Объяснения человеческого поведения традиционно разделяют на две группы: сфокусированные на силах, которые толкают нас извне, и подчёркивающие наши возможности как индивидов для противостояния этим силам. Одно и то же явление можно рассматривать с двух позиций так называемого структурно-агентного различия. Большую часть двадцатого века, пишет Мунк, криминологи рассматривали преступность как структурное явление: они призывали политиков бороться с бедностью как первопричиной преступности. Позже, однако, они сменили тактику и начали рассматривать мотивацию каждого преступника, задаваясь вопросом о том, как можно было отговорить его от совершения преступления. По словам Мунка, криминологи не отказались от своих прежних представлений о бедности, они просто посмотрели на преступность с другой точки зрения. Агентный подход оказался полезен для полицейских, которые не могут поднять свой район из бедности, но могут изменить свои методы патрулирования.
Мунк думает, что большинство людей инстинктивно понимают, что различие между структурными и агентными причинами — как и различие между «природой» и «воспитанием» — есть просто артефакт объяснения, а не самой реальности. Любое объяснение, как мы знаем, ограничено и не даёт всей картины. Из-за этого, пишет Мунк, эгалитаризм удачи и следующие ему политики вызывают у нас двойственные чувства. Консерваторы, призывающие к сокращению социальных гарантий, преувеличивают ту меру, в которой люди контролируют свою жизнь; либералы, наоборот, преувеличивают наше бессилие. Обе позиции неубедительны. «Избиратели восприимчивы к идее о том, что несправедливо финансировать одни школы лучше, чем другие, и вместе с тем они упираются, когда слышат, что те, кто хорошо учится в школе, просто счастливчики», — пишет Мунк. «Хотя они и признают, что причины понижения уровня жизни среднего класса кроются в больших структурных трансформациях мировой экономики, они всё ещё скептически относятся к утверждению о том, что экономические перспективы каждого отдельного человека не находятся в его руках».
Читая Уолдрона, Андерсон, Мунка и других мыслителей, я вспоминаю время, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет. Мои родители были в разводе и редко общались; за три года я учился в трёх разных школах — плохой, средней и хорошей. Плохая школа была рядом с домом моей мамы, где мы жили в подвале, сдавая в аренду первый этаж. Хорошая школа находилась в богатом пригороде. При поступлении туда я указал адрес друзей нашей семьи, которые жили в маленькой квартирке на окраине пригорода. Это распространённый вид мошенничества при поступлении, особенно там, где богатые и бедные округа граничат друг с другом.
Какое-то время я ездил туда после школы и околачивался там. Потом моя мама придумала план. Она предложила таксисту за ежемесячную плату забирать меня из школы каждый день и отвозить к дому моего отца.
Таксиста звали Питер, он был родом из Западной Африки и разговаривал с акцентом, который меня иногда раздражал. Мы болтали про его родной город, его девушку, книги, которые я любил читать — в основном Стивен Кинг, — он мило делал вид, что ему это интересно.
Однажды Питер приехал взволнованный. «Мне нужно кое-куда заехать по пути, хорошо? Только не говори маме». Мы свернули в район маленьких запущенных домиков. По пути Питер рассказывал мне, как устроен его бизнес. Машина не принадлежала ему, он арендовал её у таксопарка. Если он пропускал свой ежемесячный платёж, компания отбирала машину. Арендная плата была очень высокой. «Я езжу, езжу, езжу, — говорит он, — но никак не могу заработать эту сумму! Никак!». Когда мы подъехали к дому его кузена, он разрыдался. С заднего сидения я наблюдал, как он вернулся в машину с деньгами, которые только что занял.
Я не был избалованным ребёнком и знал про материальные трудности. Несколько раз за тот год нам отключали электричество, потому что мама не могла заплатить по счетам; мы мылись и обедали в темноте. Она скрывала своё отчаяние, но Питер в тот момент разделил его со мной. Он был ближе к тому, чтобы упасть на самое дно. Более 10 лет спустя, по какому-то невероятному диккенсовскому совпадению, Питер, который всё ещё водил такси, подхватил моего отца в аэропорту, и тот тоже нанял его для регулярных поездок. Так мы снова встретились к нашей великой радости. Но вскоре он умер. Он страдал от диабета и гипертонии. Не имея страховки, он затянул с лечением инфекции в пальце ноги. Она поразила его кровь, и он умер от септического шока. Мозг отказывается принимать такую несправедливость. Питер и я были двумя равными людьми на одной планете. Что тут такого сложного?
Какое-то время я ездил туда после школы и околачивался там. Потом моя мама придумала план. Она предложила таксисту за ежемесячную плату забирать меня из школы каждый день и отвозить к дому моего отца.
Таксиста звали Питер, он был родом из Западной Африки и разговаривал с акцентом, который меня иногда раздражал. Мы болтали про его родной город, его девушку, книги, которые я любил читать — в основном Стивен Кинг, — он мило делал вид, что ему это интересно.
Однажды Питер приехал взволнованный. «Мне нужно кое-куда заехать по пути, хорошо? Только не говори маме». Мы свернули в район маленьких запущенных домиков. По пути Питер рассказывал мне, как устроен его бизнес. Машина не принадлежала ему, он арендовал её у таксопарка. Если он пропускал свой ежемесячный платёж, компания отбирала машину. Арендная плата была очень высокой. «Я езжу, езжу, езжу, — говорит он, — но никак не могу заработать эту сумму! Никак!». Когда мы подъехали к дому его кузена, он разрыдался. С заднего сидения я наблюдал, как он вернулся в машину с деньгами, которые только что занял.
Я не был избалованным ребёнком и знал про материальные трудности. Несколько раз за тот год нам отключали электричество, потому что мама не могла заплатить по счетам; мы мылись и обедали в темноте. Она скрывала своё отчаяние, но Питер в тот момент разделил его со мной. Он был ближе к тому, чтобы упасть на самое дно. Более 10 лет спустя, по какому-то невероятному диккенсовскому совпадению, Питер, который всё ещё водил такси, подхватил моего отца в аэропорту, и тот тоже нанял его для регулярных поездок. Так мы снова встретились к нашей великой радости. Но вскоре он умер. Он страдал от диабета и гипертонии. Не имея страховки, он затянул с лечением инфекции в пальце ноги. Она поразила его кровь, и он умер от септического шока. Мозг отказывается принимать такую несправедливость. Питер и я были двумя равными людьми на одной планете. Что тут такого сложного?
Читая Уолдрона, Андерсон, Мунка и других мыслителей, я вспоминаю время, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет. Мои родители были в разводе и редко общались; за три года я учился в трёх разных школах — плохой, средней и хорошей. Плохая школа была рядом с домом моей мамы, где мы жили в подвале, сдавая в аренду первый этаж. Хорошая школа находилась в богатом пригороде. При поступлении туда я указал адрес друзей нашей семьи, которые жили в маленькой квартирке на окраине пригорода. Это распространённый вид мошенничества при поступлении, особенно там, где богатые и бедные округа граничат друг с другом.
Какое-то время я ездил туда после школы и околачивался там. Потом моя мама придумала план. Она предложила таксисту за ежемесячную плату забирать меня из школы каждый день и отвозить к дому моего отца.
Таксиста звали Питер, он был родом из Западной Африки и разговаривал с акцентом, который меня иногда раздражал. Мы болтали про его родной город, его девушку, книги, которые я любил читать — в основном Стивен Кинг, — он мило делал вид, что ему это интересно.
Однажды Питер приехал взволнованный. «Мне нужно кое-куда заехать по пути, хорошо? Только не говори маме». Мы свернули в район маленьких запущенных домиков. По пути Питер рассказывал мне, как устроен его бизнес. Машина не принадлежала ему, он арендовал её у таксопарка. Если он пропускал свой ежемесячный платёж, компания отбирала машину. Арендная плата была очень высокой. «Я езжу, езжу, езжу, — говорит он, — но никак не могу заработать эту сумму! Никак!». Когда мы подъехали к дому его кузена, он разрыдался. С заднего сидения я наблюдал, как он вернулся в машину с деньгами, которые только что занял.
Я не был избалованным ребёнком и знал про материальные трудности. Несколько раз за тот год нам отключали электричество, потому что мама не могла заплатить по счетам; мы мылись и обедали в темноте. Она скрывала своё отчаяние, но Питер в тот момент разделил его со мной. Он был ближе к тому, чтобы упасть на самое дно. Более 10 лет спустя, по какому-то невероятному диккенсовскому совпадению, Питер, который всё ещё водил такси, подхватил моего отца в аэропорту, и тот тоже нанял его для регулярных поездок. Так мы снова встретились к нашей великой радости. Но вскоре он умер. Он страдал от диабета и гипертонии. Не имея страховки, он затянул с лечением инфекции в пальце ноги. Она поразила его кровь, и он умер от септического шока. Мозг отказывается принимать такую несправедливость. Питер и я были двумя равными людьми на одной планете. Что тут такого сложного?
Какое-то время я ездил туда после школы и околачивался там. Потом моя мама придумала план. Она предложила таксисту за ежемесячную плату забирать меня из школы каждый день и отвозить к дому моего отца.
Таксиста звали Питер, он был родом из Западной Африки и разговаривал с акцентом, который меня иногда раздражал. Мы болтали про его родной город, его девушку, книги, которые я любил читать — в основном Стивен Кинг, — он мило делал вид, что ему это интересно.
Однажды Питер приехал взволнованный. «Мне нужно кое-куда заехать по пути, хорошо? Только не говори маме». Мы свернули в район маленьких запущенных домиков. По пути Питер рассказывал мне, как устроен его бизнес. Машина не принадлежала ему, он арендовал её у таксопарка. Если он пропускал свой ежемесячный платёж, компания отбирала машину. Арендная плата была очень высокой. «Я езжу, езжу, езжу, — говорит он, — но никак не могу заработать эту сумму! Никак!». Когда мы подъехали к дому его кузена, он разрыдался. С заднего сидения я наблюдал, как он вернулся в машину с деньгами, которые только что занял.
Я не был избалованным ребёнком и знал про материальные трудности. Несколько раз за тот год нам отключали электричество, потому что мама не могла заплатить по счетам; мы мылись и обедали в темноте. Она скрывала своё отчаяние, но Питер в тот момент разделил его со мной. Он был ближе к тому, чтобы упасть на самое дно. Более 10 лет спустя, по какому-то невероятному диккенсовскому совпадению, Питер, который всё ещё водил такси, подхватил моего отца в аэропорту, и тот тоже нанял его для регулярных поездок. Так мы снова встретились к нашей великой радости. Но вскоре он умер. Он страдал от диабета и гипертонии. Не имея страховки, он затянул с лечением инфекции в пальце ноги. Она поразила его кровь, и он умер от септического шока. Мозг отказывается принимать такую несправедливость. Питер и я были двумя равными людьми на одной планете. Что тут такого сложного?
Разнице между интуицией и аргументом — между возмущением и лучшим ответом на него — посвятил свою книгу «Practical Equality: Forging Justice in a Divided Nation» Роберт Цай, профессор права Американского университета. Он придаёт большое значение интуиции о том, что мы «равны друг другу», но всё же, пишет он, «в ситуации демократического разнообразия мнения людей о смысле равенства будут расходиться». Он приходит к выводу, что постановка вопроса о равенстве может оказаться столь запутанной и чреватой, что самым мудрым может оказаться решение обойти его стороной. Мы можем противостоять неравенству и стремиться к равенству другими, менее запутанными способами.
Цай, адвокат по конституционным делам, хорошо знаком с тем, как разворачивались споры о равенстве в судах. Зачастую, пишет он, моральная притягательность равенства приводит к обратным результатам. Бороться за него значит быть на стороне справедливости, поэтому нет другого пути, кроме обвинения тех, кто препятствует ему своим расизмом, мизогинией, элитизмом или угнетением. Цай рассказывает о деле «Город Клиберн, Техас против Интерната Клиберна» 1985 года. Одна частная компания хотела открыть в маленьком городе Клиберне приют для тринадцати человек с умственной отсталостью. На пути у них встало местное постановление, требующее разрешения на открытие учреждения для «слабоумных» («feeble-minded» — прим.пер.). Городские чиновники, выступившие против открытия учреждения, высказывали самые разные опасения: сохранение «спокойствия» района, опасность для находящихся поблизости пожилых людей, риск издевательств со стороны хулиганов из соседней школы. Защитники указывали, что истоки этого постановления восходят к евгеническому прошлому страны. В 1927 году Верховный Суд разрешил стерилизацию умственно отсталых «для сохранения здоровья жителей штата».
Когда дело дошло до Верховного суда, аргументы против постановления формулировались в основном в терминах равенства. Некоторые сравнивали его с законами апартеида: оно ничем не отличается, говорили они, от запретов по этническим или религиозным признакам. Защитники постановления из администрации Рейгана настаивали, что поскольку у людей с ментальными особенностями «другие потребности и возможности», отношение к ним не должно отражать «оскорбительных и уничижительных целей». Процесс перешёл в упрямые дебаты об эгалитаризме. Встал чувствительный, но достаточно общий вопрос о месте людей с ментальными особенностями в обществе, приверженном равенству; от ответа на него зависят жизни миллионов людей с инвалидностью. Эта дискуссия в свою очередь была связана с обвинениями в том, что противники интерната являются узколобыми ханжами. Такое обвинение могло раззадорить симпатии горожан в отношении противников интерната. Перспектива найти устраивающее всех решение суда выглядело удручающе маловероятной.
В итоге, пишет Цай, судьи отказались размышлять в терминах равенства. Вместо этого они прибегли к «правилу разумного подхода», задавшись вопросом, имеются ли разумные основания у обеспокоенности горожан, и пришли к выводу, что таковых нет. Таким образом суд полностью обошёл вопрос о том, руководствуются ли противники интерната ненавистью; обошёл он и вопрос о статусе интеллектуально неполноценных людей как равных. При этом суд всё же вынес эгалитарный вердикт и «запретил дискриминационные действия, основанные на разрушительных культурных стереотипах».
Верховный суд использовал такой же подход в других делах, затрагивающих проблему равенства. В деле «Соединённые Штаты против Вирджинии» 1996 года студентка подала жалобу на военную академию, которая не хотела принимать её на учёбу. Аргументы её защиты о равенстве завели суд в болото вопросов о смысле равного отношения к мужчинам и женщинам со стороны академии. Поэтому судьи снова отложили в сторону проблему равенства и установили отсутствие разумных оснований для отказа в принятии женщины на учёбу в академию.
Цай утверждает, что эти и многие другие примеры показывают, что зачастую лучше стремиться к «равенству другими средствами», нежели погружаясь в бурные воды дискуссии о смысле равенства как такового. Мы могли бы подвергнуть неэгалитарные системы и правила тесту на разумность, рациональность. При этом мы можем задаваться вопросами о том, являются ли они справедливыми, приводят ли к жестокости, все ли голоса были услышаны. Ответить на эти вопросы трудно, но всё же легче, чем прийти к общему пониманию того, что означает «равенство». Мы добьёмся большего прогресса, настаивает Цай, если «переместим фокус морального возмущения в другое место».
Цай, адвокат по конституционным делам, хорошо знаком с тем, как разворачивались споры о равенстве в судах. Зачастую, пишет он, моральная притягательность равенства приводит к обратным результатам. Бороться за него значит быть на стороне справедливости, поэтому нет другого пути, кроме обвинения тех, кто препятствует ему своим расизмом, мизогинией, элитизмом или угнетением. Цай рассказывает о деле «Город Клиберн, Техас против Интерната Клиберна» 1985 года. Одна частная компания хотела открыть в маленьком городе Клиберне приют для тринадцати человек с умственной отсталостью. На пути у них встало местное постановление, требующее разрешения на открытие учреждения для «слабоумных» («feeble-minded» — прим.пер.). Городские чиновники, выступившие против открытия учреждения, высказывали самые разные опасения: сохранение «спокойствия» района, опасность для находящихся поблизости пожилых людей, риск издевательств со стороны хулиганов из соседней школы. Защитники указывали, что истоки этого постановления восходят к евгеническому прошлому страны. В 1927 году Верховный Суд разрешил стерилизацию умственно отсталых «для сохранения здоровья жителей штата».
Когда дело дошло до Верховного суда, аргументы против постановления формулировались в основном в терминах равенства. Некоторые сравнивали его с законами апартеида: оно ничем не отличается, говорили они, от запретов по этническим или религиозным признакам. Защитники постановления из администрации Рейгана настаивали, что поскольку у людей с ментальными особенностями «другие потребности и возможности», отношение к ним не должно отражать «оскорбительных и уничижительных целей». Процесс перешёл в упрямые дебаты об эгалитаризме. Встал чувствительный, но достаточно общий вопрос о месте людей с ментальными особенностями в обществе, приверженном равенству; от ответа на него зависят жизни миллионов людей с инвалидностью. Эта дискуссия в свою очередь была связана с обвинениями в том, что противники интерната являются узколобыми ханжами. Такое обвинение могло раззадорить симпатии горожан в отношении противников интерната. Перспектива найти устраивающее всех решение суда выглядело удручающе маловероятной.
В итоге, пишет Цай, судьи отказались размышлять в терминах равенства. Вместо этого они прибегли к «правилу разумного подхода», задавшись вопросом, имеются ли разумные основания у обеспокоенности горожан, и пришли к выводу, что таковых нет. Таким образом суд полностью обошёл вопрос о том, руководствуются ли противники интерната ненавистью; обошёл он и вопрос о статусе интеллектуально неполноценных людей как равных. При этом суд всё же вынес эгалитарный вердикт и «запретил дискриминационные действия, основанные на разрушительных культурных стереотипах».
Верховный суд использовал такой же подход в других делах, затрагивающих проблему равенства. В деле «Соединённые Штаты против Вирджинии» 1996 года студентка подала жалобу на военную академию, которая не хотела принимать её на учёбу. Аргументы её защиты о равенстве завели суд в болото вопросов о смысле равного отношения к мужчинам и женщинам со стороны академии. Поэтому судьи снова отложили в сторону проблему равенства и установили отсутствие разумных оснований для отказа в принятии женщины на учёбу в академию.
Цай утверждает, что эти и многие другие примеры показывают, что зачастую лучше стремиться к «равенству другими средствами», нежели погружаясь в бурные воды дискуссии о смысле равенства как такового. Мы могли бы подвергнуть неэгалитарные системы и правила тесту на разумность, рациональность. При этом мы можем задаваться вопросами о том, являются ли они справедливыми, приводят ли к жестокости, все ли голоса были услышаны. Ответить на эти вопросы трудно, но всё же легче, чем прийти к общему пониманию того, что означает «равенство». Мы добьёмся большего прогресса, настаивает Цай, если «переместим фокус морального возмущения в другое место».
Разнице между интуицией и аргументом — между возмущением и лучшим ответом на него — посвятил свою книгу «Practical Equality: Forging Justice in a Divided Nation» Роберт Цай, профессор права Американского университета. Он придаёт большое значение интуиции о том, что мы «равны друг другу», но всё же, пишет он, «в ситуации демократического разнообразия мнения людей о смысле равенства будут расходиться». Он приходит к выводу, что постановка вопроса о равенстве может оказаться столь запутанной и чреватой, что самым мудрым может оказаться решение обойти его стороной. Мы можем противостоять неравенству и стремиться к равенству другими, менее запутанными способами.
Цай, адвокат по конституционным делам, хорошо знаком с тем, как разворачивались споры о равенстве в судах. Зачастую, пишет он, моральная притягательность равенства приводит к обратным результатам. Бороться за него значит быть на стороне справедливости, поэтому нет другого пути, кроме обвинения тех, кто препятствует ему своим расизмом, мизогинией, элитизмом или угнетением. Цай рассказывает о деле «Город Клиберн, Техас против Интерната Клиберна» 1985 года. Одна частная компания хотела открыть в маленьком городе Клиберне приют для тринадцати человек с умственной отсталостью. На пути у них встало местное постановление, требующее разрешения на открытие учреждения для «слабоумных» («feeble-minded» — прим.пер.). Городские чиновники, выступившие против открытия учреждения, высказывали самые разные опасения: сохранение «спокойствия» района, опасность для находящихся поблизости пожилых людей, риск издевательств со стороны хулиганов из соседней школы. Защитники указывали, что истоки этого постановления восходят к евгеническому прошлому страны. В 1927 году Верховный Суд разрешил стерилизацию умственно отсталых «для сохранения здоровья жителей штата».
Когда дело дошло до Верховного суда, аргументы против постановления формулировались в основном в терминах равенства. Некоторые сравнивали его с законами апартеида: оно ничем не отличается, говорили они, от запретов по этническим или религиозным признакам. Защитники постановления из администрации Рейгана настаивали, что поскольку у людей с ментальными особенностями «другие потребности и возможности», отношение к ним не должно отражать «оскорбительных и уничижительных целей». Процесс перешёл в упрямые дебаты об эгалитаризме. Встал чувствительный, но достаточно общий вопрос о месте людей с ментальными особенностями в обществе, приверженном равенству; от ответа на него зависят жизни миллионов людей с инвалидностью. Эта дискуссия в свою очередь была связана с обвинениями в том, что противники интерната являются узколобыми ханжами. Такое обвинение могло раззадорить симпатии горожан в отношении противников интерната. Перспектива найти устраивающее всех решение суда выглядело удручающе маловероятной.
В итоге, пишет Цай, судьи отказались размышлять в терминах равенства. Вместо этого они прибегли к «правилу разумного подхода», задавшись вопросом, имеются ли разумные основания у обеспокоенности горожан, и пришли к выводу, что таковых нет. Таким образом суд полностью обошёл вопрос о том, руководствуются ли противники интерната ненавистью; обошёл он и вопрос о статусе интеллектуально неполноценных людей как равных. При этом суд всё же вынес эгалитарный вердикт и «запретил дискриминационные действия, основанные на разрушительных культурных стереотипах».
Верховный суд использовал такой же подход в других делах, затрагивающих проблему равенства. В деле «Соединённые Штаты против Вирджинии» 1996 года студентка подала жалобу на военную академию, которая не хотела принимать её на учёбу. Аргументы её защиты о равенстве завели суд в болото вопросов о смысле равного отношения к мужчинам и женщинам со стороны академии. Поэтому судьи снова отложили в сторону проблему равенства и установили отсутствие разумных оснований для отказа в принятии женщины на учёбу в академию.
Цай утверждает, что эти и многие другие примеры показывают, что зачастую лучше стремиться к «равенству другими средствами», нежели погружаясь в бурные воды дискуссии о смысле равенства как такового. Мы могли бы подвергнуть неэгалитарные системы и правила тесту на разумность, рациональность. При этом мы можем задаваться вопросами о том, являются ли они справедливыми, приводят ли к жестокости, все ли голоса были услышаны. Ответить на эти вопросы трудно, но всё же легче, чем прийти к общему пониманию того, что означает «равенство». Мы добьёмся большего прогресса, настаивает Цай, если «переместим фокус морального возмущения в другое место».
Цай, адвокат по конституционным делам, хорошо знаком с тем, как разворачивались споры о равенстве в судах. Зачастую, пишет он, моральная притягательность равенства приводит к обратным результатам. Бороться за него значит быть на стороне справедливости, поэтому нет другого пути, кроме обвинения тех, кто препятствует ему своим расизмом, мизогинией, элитизмом или угнетением. Цай рассказывает о деле «Город Клиберн, Техас против Интерната Клиберна» 1985 года. Одна частная компания хотела открыть в маленьком городе Клиберне приют для тринадцати человек с умственной отсталостью. На пути у них встало местное постановление, требующее разрешения на открытие учреждения для «слабоумных» («feeble-minded» — прим.пер.). Городские чиновники, выступившие против открытия учреждения, высказывали самые разные опасения: сохранение «спокойствия» района, опасность для находящихся поблизости пожилых людей, риск издевательств со стороны хулиганов из соседней школы. Защитники указывали, что истоки этого постановления восходят к евгеническому прошлому страны. В 1927 году Верховный Суд разрешил стерилизацию умственно отсталых «для сохранения здоровья жителей штата».
Когда дело дошло до Верховного суда, аргументы против постановления формулировались в основном в терминах равенства. Некоторые сравнивали его с законами апартеида: оно ничем не отличается, говорили они, от запретов по этническим или религиозным признакам. Защитники постановления из администрации Рейгана настаивали, что поскольку у людей с ментальными особенностями «другие потребности и возможности», отношение к ним не должно отражать «оскорбительных и уничижительных целей». Процесс перешёл в упрямые дебаты об эгалитаризме. Встал чувствительный, но достаточно общий вопрос о месте людей с ментальными особенностями в обществе, приверженном равенству; от ответа на него зависят жизни миллионов людей с инвалидностью. Эта дискуссия в свою очередь была связана с обвинениями в том, что противники интерната являются узколобыми ханжами. Такое обвинение могло раззадорить симпатии горожан в отношении противников интерната. Перспектива найти устраивающее всех решение суда выглядело удручающе маловероятной.
В итоге, пишет Цай, судьи отказались размышлять в терминах равенства. Вместо этого они прибегли к «правилу разумного подхода», задавшись вопросом, имеются ли разумные основания у обеспокоенности горожан, и пришли к выводу, что таковых нет. Таким образом суд полностью обошёл вопрос о том, руководствуются ли противники интерната ненавистью; обошёл он и вопрос о статусе интеллектуально неполноценных людей как равных. При этом суд всё же вынес эгалитарный вердикт и «запретил дискриминационные действия, основанные на разрушительных культурных стереотипах».
Верховный суд использовал такой же подход в других делах, затрагивающих проблему равенства. В деле «Соединённые Штаты против Вирджинии» 1996 года студентка подала жалобу на военную академию, которая не хотела принимать её на учёбу. Аргументы её защиты о равенстве завели суд в болото вопросов о смысле равного отношения к мужчинам и женщинам со стороны академии. Поэтому судьи снова отложили в сторону проблему равенства и установили отсутствие разумных оснований для отказа в принятии женщины на учёбу в академию.
Цай утверждает, что эти и многие другие примеры показывают, что зачастую лучше стремиться к «равенству другими средствами», нежели погружаясь в бурные воды дискуссии о смысле равенства как такового. Мы могли бы подвергнуть неэгалитарные системы и правила тесту на разумность, рациональность. При этом мы можем задаваться вопросами о том, являются ли они справедливыми, приводят ли к жестокости, все ли голоса были услышаны. Ответить на эти вопросы трудно, но всё же легче, чем прийти к общему пониманию того, что означает «равенство». Мы добьёмся большего прогресса, настаивает Цай, если «переместим фокус морального возмущения в другое место».
Сам язык может вводить нас в заблуждение. Сталкиваясь с шокирующими проявлениями неравенства, наш ум автоматически переходит к его противоположности. Уклоняясь от этого импульса, как утверждает Цай, мы отказываемся от стремления к удовлетворительной риторической ясности, но в то же время можем приблизиться к общему моральному здравому смыслу о равенстве. Философ Дэвид Шмитц объясняет, почему так происходит, в книге «Elements of Justice» 2006 года. Шмитц предлагает нам задуматься о том, что делает район хорошим местом для жизни: процветающее сообщество должно иметь продуктовый магазин, пожарную станцию, библиотеку, детскую площадку. Таким же образом система правосудия должна иметь несколько составляющих, чтобы быть жизнеспособной. Легко вообразить справедливость как монолитное внушительное здание Верховного суда. Но на деле это скорее комплекс зданий с различными функциями.
Шмитц предлагает строить квартал справедливости из четырёх элементов: равенства, заслуг, взаимности и потребности. Мы используем их в различных ситуациях для решения различных проблем. Граждане равны перед законом. Работники должны вознаграждаться по своим заслугам. В партнёрских взаимоотношениях мы отдаём предпочтение взаимности. Ухаживая за детьми мы узнаём их потребности. (Мишель и Анджела должны сфокусироваться на потребностях: вместо того, чтобы спрашивать «Чего они заслуживают?» или «Что они сделали для нас?», им стоит задаться вопросом «В чём нуждаются наши дети?»). Ни один из этих принципов не имеет достаточной силы, чтобы работать в любой ситуации; фактически они часто находятся во взаимном напряжении. Кроме того, их использование не всегда уместно. Никто не хочет брак, основанный на заслугах. Рабочее место, основанное на взаимности, дисфункционально.
В реальной жизни мы вынуждены бродить по кварталу правосудия от одного здания к другому. Тренер не станет руководить командой исключительно на эгалитарных принципах; для победы она должна ставить на самых сильных игроков. Но в реальности она не ограничивается грубой меритократией. В хорошей команде игроки получают необходимую им помощь, взаимно ассистируют друг другу, команда поощряет их индивидуальные достижения, и к каждому относятся как к равному в достаточной степени для того, чтобы все чувствовали себя участниками общего дела.
Фрустрация и замешательство перед эгалитаризмом отражают скрытую сложность равенства. Оно выглядит простым и самоочевидным, будто мы можем утверждать о его существовании. Но на пути к его достижению придётся признать множество концепций того, что правильно, и научиться переключаться между ними — это своего рода равенство моральных подходов. Даже самого идеала равенства недостаточно. Ни одна версия добра не может превосходить другие.
Шмитц предлагает строить квартал справедливости из четырёх элементов: равенства, заслуг, взаимности и потребности. Мы используем их в различных ситуациях для решения различных проблем. Граждане равны перед законом. Работники должны вознаграждаться по своим заслугам. В партнёрских взаимоотношениях мы отдаём предпочтение взаимности. Ухаживая за детьми мы узнаём их потребности. (Мишель и Анджела должны сфокусироваться на потребностях: вместо того, чтобы спрашивать «Чего они заслуживают?» или «Что они сделали для нас?», им стоит задаться вопросом «В чём нуждаются наши дети?»). Ни один из этих принципов не имеет достаточной силы, чтобы работать в любой ситуации; фактически они часто находятся во взаимном напряжении. Кроме того, их использование не всегда уместно. Никто не хочет брак, основанный на заслугах. Рабочее место, основанное на взаимности, дисфункционально.
В реальной жизни мы вынуждены бродить по кварталу правосудия от одного здания к другому. Тренер не станет руководить командой исключительно на эгалитарных принципах; для победы она должна ставить на самых сильных игроков. Но в реальности она не ограничивается грубой меритократией. В хорошей команде игроки получают необходимую им помощь, взаимно ассистируют друг другу, команда поощряет их индивидуальные достижения, и к каждому относятся как к равному в достаточной степени для того, чтобы все чувствовали себя участниками общего дела.
Фрустрация и замешательство перед эгалитаризмом отражают скрытую сложность равенства. Оно выглядит простым и самоочевидным, будто мы можем утверждать о его существовании. Но на пути к его достижению придётся признать множество концепций того, что правильно, и научиться переключаться между ними — это своего рода равенство моральных подходов. Даже самого идеала равенства недостаточно. Ни одна версия добра не может превосходить другие.
Сам язык может вводить нас в заблуждение. Сталкиваясь с шокирующими проявлениями неравенства, наш ум автоматически переходит к его противоположности. Уклоняясь от этого импульса, как утверждает Цай, мы отказываемся от стремления к удовлетворительной риторической ясности, но в то же время можем приблизиться к общему моральному здравому смыслу о равенстве. Философ Дэвид Шмитц объясняет, почему так происходит, в книге «Elements of Justice» 2006 года. Шмитц предлагает нам задуматься о том, что делает район хорошим местом для жизни: процветающее сообщество должно иметь продуктовый магазин, пожарную станцию, библиотеку, детскую площадку. Таким же образом система правосудия должна иметь несколько составляющих, чтобы быть жизнеспособной. Легко вообразить справедливость как монолитное внушительное здание Верховного суда. Но на деле это скорее комплекс зданий с различными функциями.
Шмитц предлагает строить квартал справедливости из четырёх элементов: равенства, заслуг, взаимности и потребности. Мы используем их в различных ситуациях для решения различных проблем. Граждане равны перед законом. Работники должны вознаграждаться по своим заслугам. В партнёрских взаимоотношениях мы отдаём предпочтение взаимности. Ухаживая за детьми мы узнаём их потребности. (Мишель и Анджела должны сфокусироваться на потребностях: вместо того, чтобы спрашивать «Чего они заслуживают?» или «Что они сделали для нас?», им стоит задаться вопросом «В чём нуждаются наши дети?»). Ни один из этих принципов не имеет достаточной силы, чтобы работать в любой ситуации; фактически они часто находятся во взаимном напряжении. Кроме того, их использование не всегда уместно. Никто не хочет брак, основанный на заслугах. Рабочее место, основанное на взаимности, дисфункционально.
В реальной жизни мы вынуждены бродить по кварталу правосудия от одного здания к другому. Тренер не станет руководить командой исключительно на эгалитарных принципах; для победы она должна ставить на самых сильных игроков. Но в реальности она не ограничивается грубой меритократией. В хорошей команде игроки получают необходимую им помощь, взаимно ассистируют друг другу, команда поощряет их индивидуальные достижения, и к каждому относятся как к равному в достаточной степени для того, чтобы все чувствовали себя участниками общего дела.
Фрустрация и замешательство перед эгалитаризмом отражают скрытую сложность равенства. Оно выглядит простым и самоочевидным, будто мы можем утверждать о его существовании. Но на пути к его достижению придётся признать множество концепций того, что правильно, и научиться переключаться между ними — это своего рода равенство моральных подходов. Даже самого идеала равенства недостаточно. Ни одна версия добра не может превосходить другие.
Шмитц предлагает строить квартал справедливости из четырёх элементов: равенства, заслуг, взаимности и потребности. Мы используем их в различных ситуациях для решения различных проблем. Граждане равны перед законом. Работники должны вознаграждаться по своим заслугам. В партнёрских взаимоотношениях мы отдаём предпочтение взаимности. Ухаживая за детьми мы узнаём их потребности. (Мишель и Анджела должны сфокусироваться на потребностях: вместо того, чтобы спрашивать «Чего они заслуживают?» или «Что они сделали для нас?», им стоит задаться вопросом «В чём нуждаются наши дети?»). Ни один из этих принципов не имеет достаточной силы, чтобы работать в любой ситуации; фактически они часто находятся во взаимном напряжении. Кроме того, их использование не всегда уместно. Никто не хочет брак, основанный на заслугах. Рабочее место, основанное на взаимности, дисфункционально.
В реальной жизни мы вынуждены бродить по кварталу правосудия от одного здания к другому. Тренер не станет руководить командой исключительно на эгалитарных принципах; для победы она должна ставить на самых сильных игроков. Но в реальности она не ограничивается грубой меритократией. В хорошей команде игроки получают необходимую им помощь, взаимно ассистируют друг другу, команда поощряет их индивидуальные достижения, и к каждому относятся как к равному в достаточной степени для того, чтобы все чувствовали себя участниками общего дела.
Фрустрация и замешательство перед эгалитаризмом отражают скрытую сложность равенства. Оно выглядит простым и самоочевидным, будто мы можем утверждать о его существовании. Но на пути к его достижению придётся признать множество концепций того, что правильно, и научиться переключаться между ними — это своего рода равенство моральных подходов. Даже самого идеала равенства недостаточно. Ни одна версия добра не может превосходить другие.
Источник: Joshua Rothman. THE EQUALITY CONUNDRUM. We all agree that inequality is bad. But what kind of equality is good? The New Yorker. January 6, 2020.
Перевод подготовил Александр Замятин.
Редактура: Дмитрий Середа и Алекс Фернос.
Перевод подготовил Александр Замятин.
Редактура: Дмитрий Середа и Алекс Фернос.
Читайте также